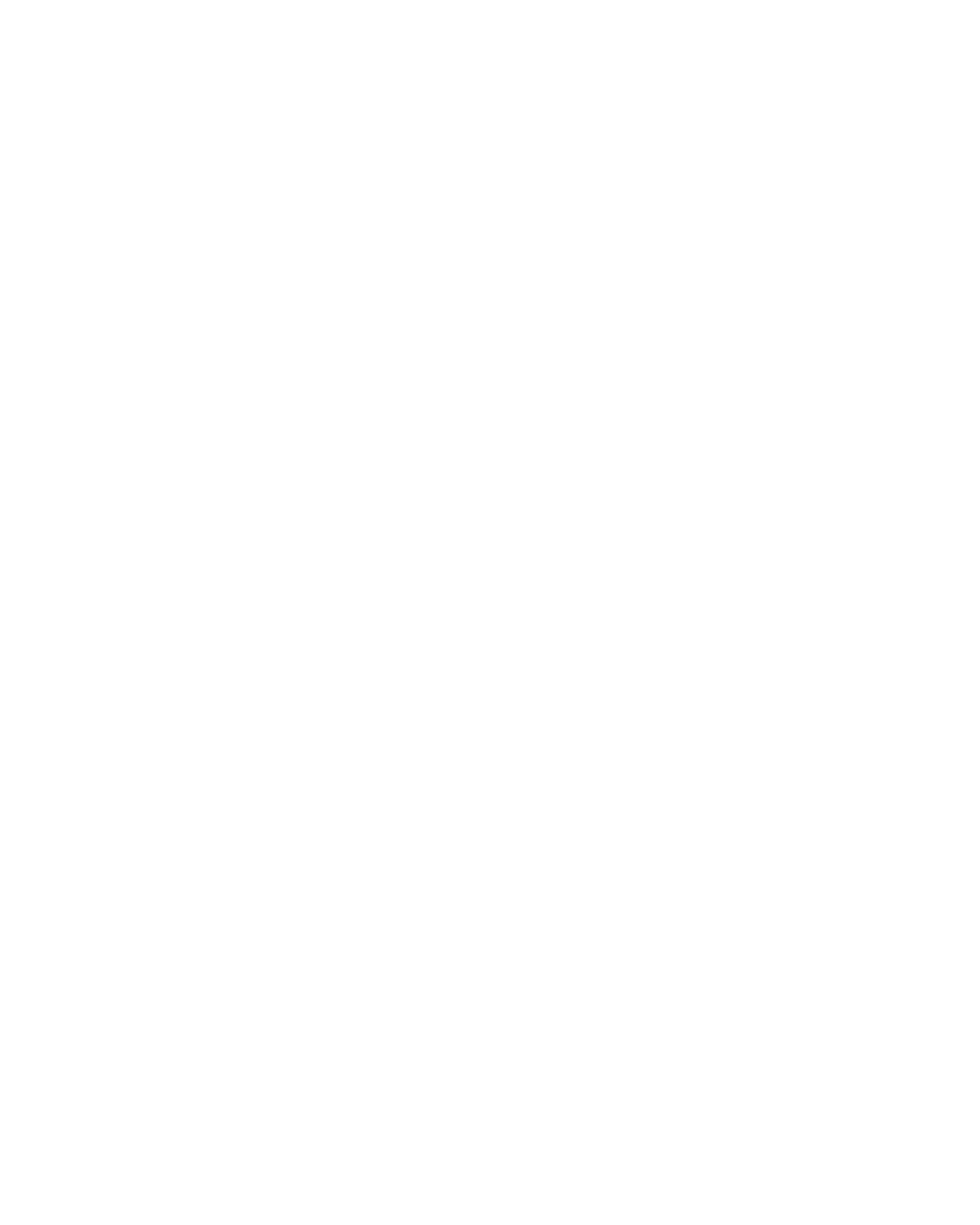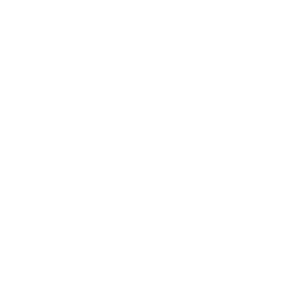Персональная выставка Алексея Семичова
ЯД
16.10 – 6.12.2025
ЯД
Живопись Алексея Семичова зачастую описывают как безупречно едкую — холст, масло, деготь, желчь. Прежние его опыты, как персональные, так и исполненные в дуэте с Андреем Кузьминым, непременно вызывали подозрения и, действительно, оказывались резистентными по отношению к локальной художественной сцене, привечавшим их добродушным «Митькам» и не ждавшей подвоха китчевато-высоколобой Новой академии. Нарочито гладкие, изысканные, болезненные, девиантные картинки, босховско-бальтюсовский угрюмый брейнрот, язвы на языке живописи: в одном из первых текстов о дуэте пересмешников Николай Кононов точно диагностировал — «Рай заражен!».
В новых сериях, представленных на выставке, Семичов продолжает размышлять о «токсичных» свойствах избранного медиума, чреватых не только для зрителей и коллег по цеху, но и для него самого. Даже когда — давным-давно — свинец, мышьяк и ртуть ушли из состава красок, а палитра Семичова — теперь — расцветилась, причем самыми безобидными и даже жизнерадостными пигментами, слова Парацельса о том, что все есть яд, и ничто не лишено ядовитости, не перестали быть справедливыми. Отравленная среда, не суть важно, информационная или эстетическая, и разъеденный временем медиум, скомпрометированный не раз, остаются предметом губительных рефлексий — свидетельством обреченности художника и его же одержимости. Яд поменял агрегатное состояние — и живопись, с которой Семичов продолжает мириться и спорить, за последние десятилетия изменилась также, — сделанность истерлась в пыль, взвивалась чернильным облаком, мороком, разлилась парфюмированной «розовой водичкой», сладостью птомаинов.
Сегодня фигуративная картина движется по траектории абсцесс — эксцесс — ренессанс. Ей давно предсказывают конец, но она не умирает, а благополучно мутирует, — то и дело срываясь в не лишенную мотивации полуабстракцию. Семичов удивительно последователен и вместе с тем разносторонен в своих живописных экспериментах: подобно Питеру Дойгу, но подвергаясь неизбежно влиянию местного болотного газа, он то удерживает призрачные фигуры на грани распада, то растворяет их в локальном красочном пятне, чередует приглушенное сияние лессировок с широкой кистью — и, кроме того, делает видимыми токи эмоциональных потрясений, токсинов и изменчивой перцепции.
Работы Семичова — алхимические реакции красок и образов, которые преследуют художника даже тогда, когда он закрывает глаза, смотрит в оцепенении в никуда или зрит умозрительно в корень, представив свой взгляд лучом рентгена, подобием прибора ночного видения или тепловизора (горячечная палитра испытывается им еще с митьковских времен). Колыбельные и подопечные им онейроиды, неясные головы, беззаботные игры, ластящиеся туманы, ватные вихри и тягучие буреломы — все колеблется, дрожит, готово исчезнуть. Решение пластических задач, сопряженное с перманентным переживанием катастрофы, становится проверкой пределов восприятия: аберрации, доведенные до абстракции, спазмы и воспаления, гул, немота, ступор, удушье, коллапс — или прозрение, утешение, исцеление? Искусство — миазм и/или антидот?
Галина Поликарпова