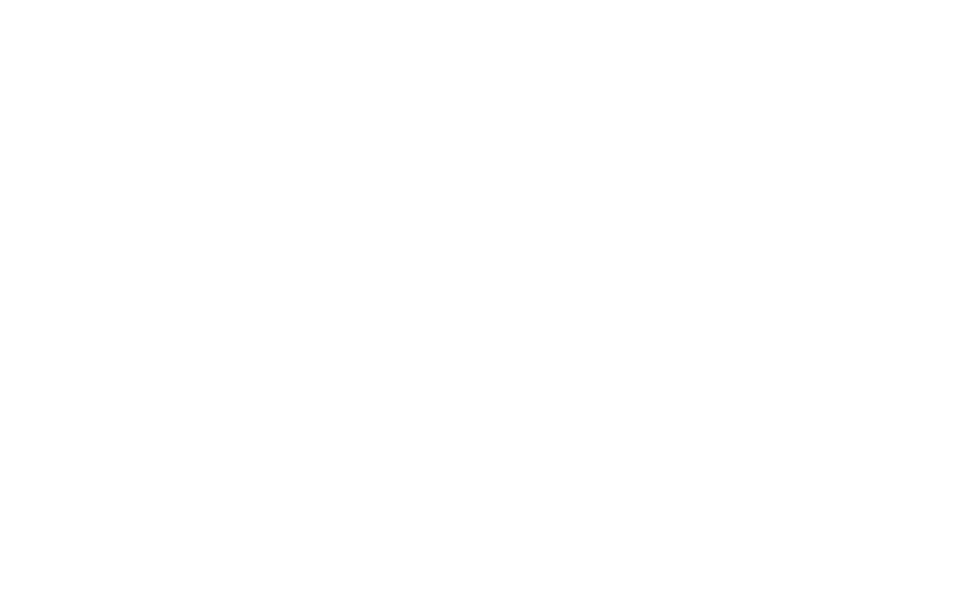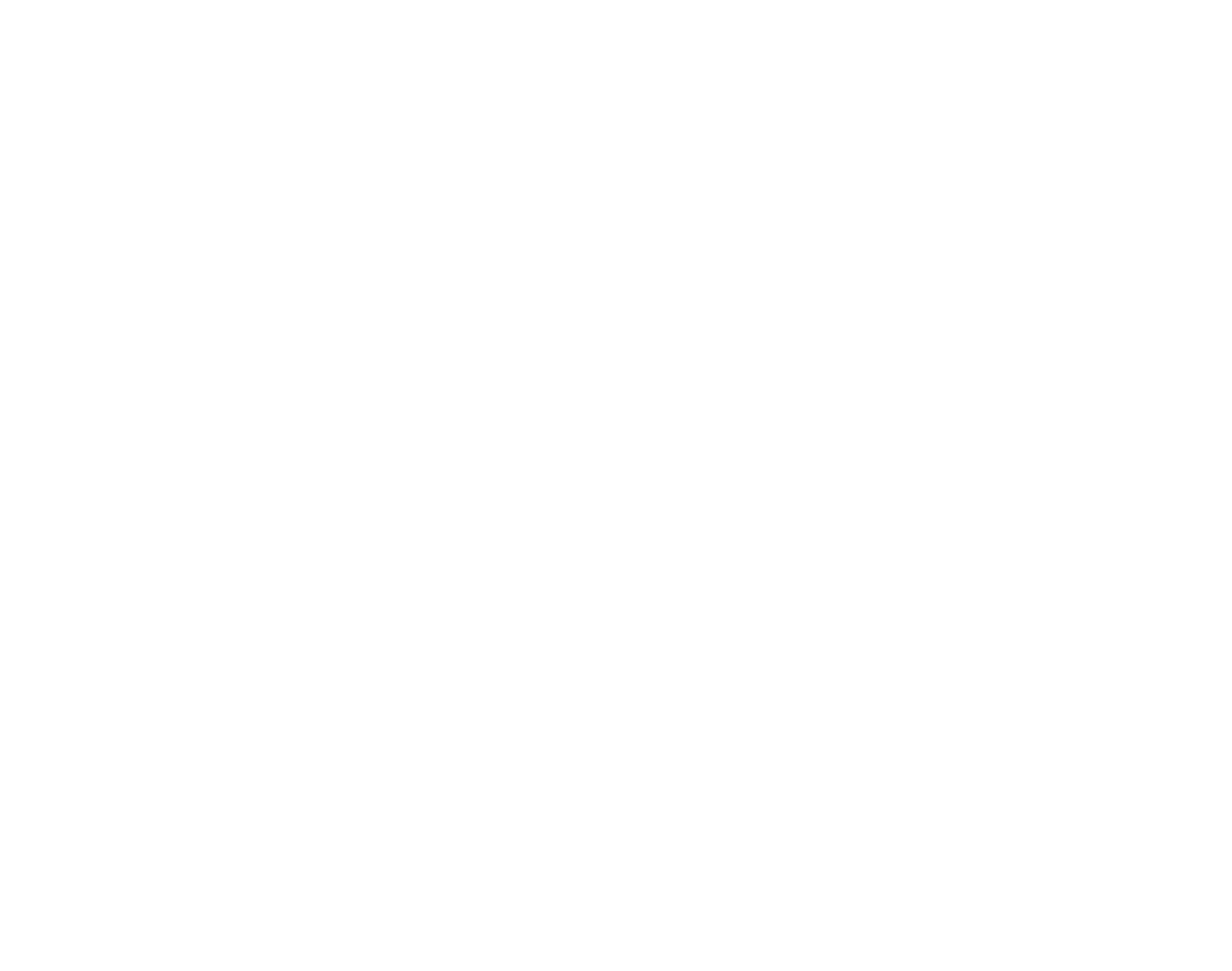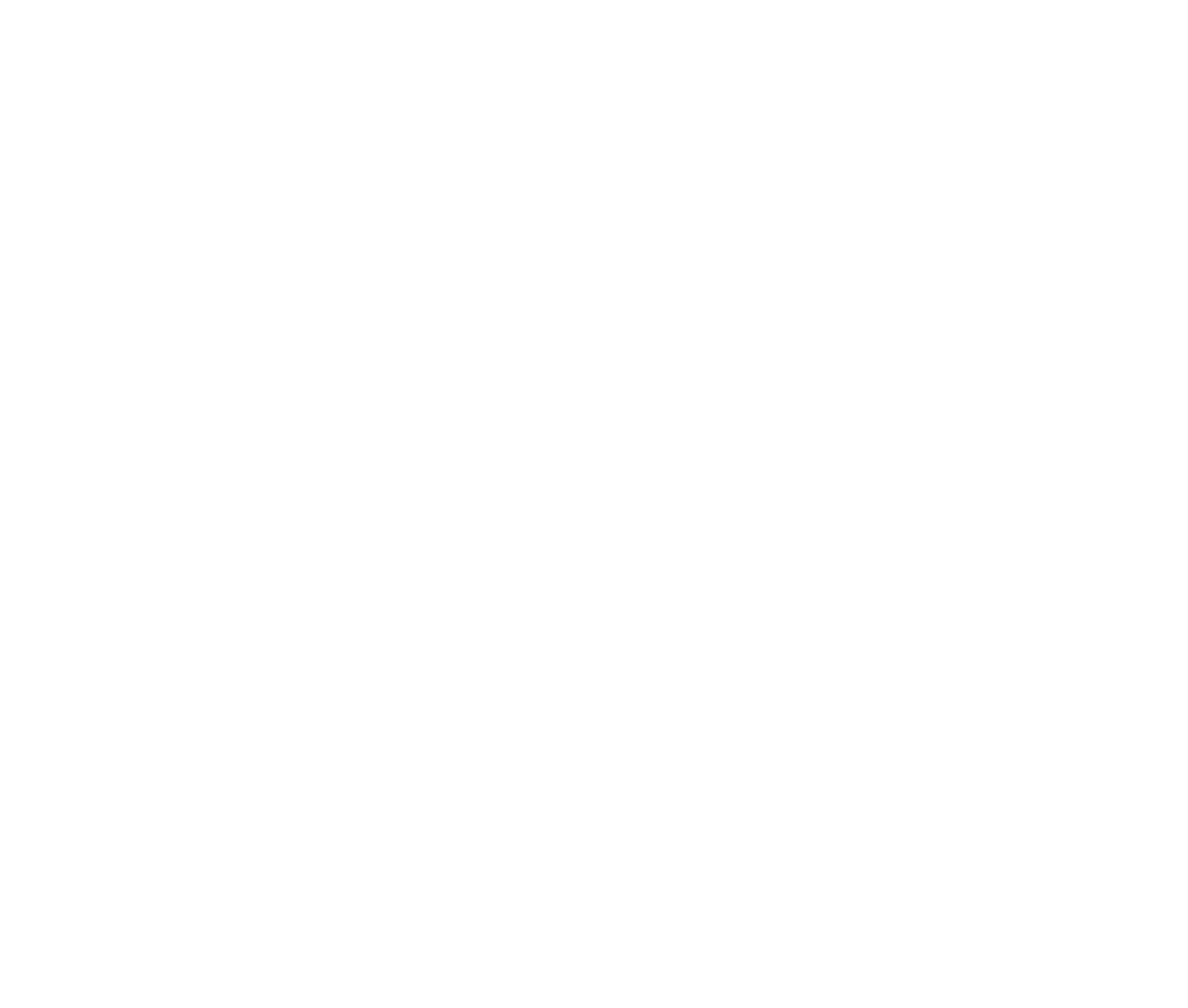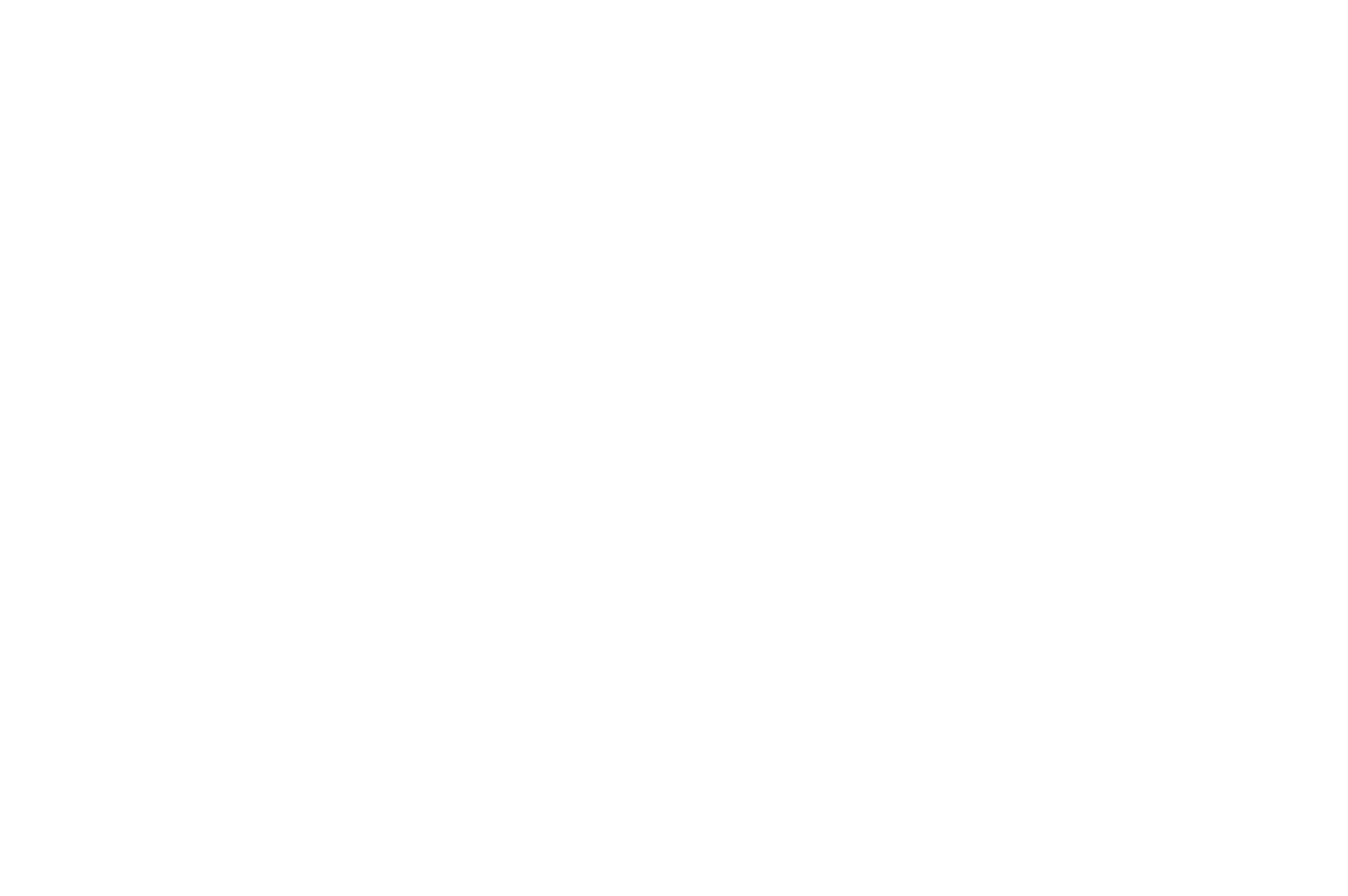НЕОПЕТЕРБУРГ
ЛЕОНИД ЦХЭ
19.11.2015 – 27.01.2016
19.11.2015 – 27.01.2016
Серия зарисовок из современной петербургской жизни была сделана Леонидом Цхэ за прошедший год. Все картины были написаны по мотивам фотографий, снятых «мыльницей». Уличная неразбериха, сценки у прилавка на рынке, несколько молодых людей пытаются совладать с селфи-штативом, — сюжеты для холстов выбраны в лучших традициях реалистического искусства. Для photo-based painting бытовизм и наблюдения над многообразием проявлений городской жизни вполне естественны. Чем обыденнее тема или сюжет работы, тем меньше опасность попасть в жанровую ловушку документального свидетельства или прочувствованного рассказа о народной жизни. Ведь живопись, черпая материал из фотографии, умножает свою силу. Цифровые изображения, как и ранние формы фотоотпечатков, раскрепощают живописца, вовлекая его в один из самых захватывающих парагонов модернизма — соревнование между художником и визуальными технологиями. И Эжена Делакруа, и Ивана Шишкина, и Мориса Утрилло, и Фрэнсиса Бэкона снимки только раззадоривали в работе над картиной. Неужели мастерство художника уступает изобретательности инженера? И разве художнику недостает воображения и лукавства для того, чтобы придумать наперекор безразличной наблюдательности, с которой камера смотрит в мир, свою творческую оптику или свой особенный арт-прищур?
Другой спор, в который ввязался Леонид Цхэ, работая над зарисовками из жизни современного Петербурга, пожалуй, еще более давний, чем поединок изобразительного искусства и визуальной машинерии. Цхэ — один из немногих на сегодняшний день выпускников и преподавателей Академии художеств, которому интересно искать точки соприкосновения между этой консервативной школой и contemporary art. Храм изящных искусств на Университетской набережной был, есть и будет главным оппонентом современного искусства в России и едва ли не самым надежным оправданием его существования на наших бескрайних просторах. И передвижники, и авангардисты начала прошлого века, и позднесоветские нонконформисты, искавшие свой эстетический опыт и признание в актуальных художественных практиках, неоднократно испытывали на прочность узы, которые связывали их с искусством в классическом понимании. Башню Третьего Интернационала Владимир Татлин строил в мастерской Павла Чистякова, у которого учились чуть ли не все русские художники рубежа веков. Предварительно Татлин выбросил мозаичные наборы мэтра, занимавшие слишком много места.
Живопись Цхэ — выход за границы «школы», освобождение от установок академического рисунка и навыков художника-станковиста. Это настаивание на своем и попытка быть живописцем на свой лад, оставаясь в стенах Академии. В союзниках у Цхэ пережившие подобный опыт гранды современного искусства Нео Раух, Люк Тёйманс или Питер Дойг. Впрочем, спор, который возобновил Цхэ, пока что соизмерим не с дискуссиями на международной арт-сцене, но в первую очередь с местным художественным контекстом и возможностями его расширения до той жизни, которая разворачивается в Дюссельдорфской академии художеств, в галереях в Челси на Манхэттене или на международных арт-фестивалях. Параллельно в Европе сегодня работает как минимум два поколения художников, увлеченных теми же проблемами в живописи, которые занимают петербургского живописца. Однако местная специфика состоит в том, что нигде уже не осталось такого раритета, как наша Академия художеств в ее девятнадцативечном состоянии. Это придает творчеству многих наших художников особенное петербургское обаяние.
Photo-based painting, взятая на вооружение в полемике с академическим искусством, слагается из нескольких художественных языков. Жестуальная абстракция расшатывает устои академической живописи. «Школы» больше нет и в помине, когда фигуры выписываются приплясывающими загогулинами, лихими мазками и от души поставленными кляксами. При пристальном рассматривании плоскость картины тонет в вавилонском многоцветье, где мазки и потеки собраны в броский хаотический узор. Экспрессия жестуальной абстракции остужена белизной холста. На некоторых картинах не записано три четверти плоскости, и броские пятна фигур зависают в зияющей пустоте отрывочного рассказа. Предварительные границы картины намечены неуверенной карандашной линией, подрамник же взят шире. Другие карандашные наброски обозначают силуэт одного из персонажей или часть пейзажа. Эта живопись способна вобрать в себя и графический рисунок, и белое на белом для того, чтобы быть картиной в классическом понимании. Перед нами плоскостное коллажированное изображение, претендующее свидетельствовать о реальности.
Выставка Леонида Цхэ рассказывает о Неопетербурге — городе, которые уже более двадцати лет живет с именем, возвращенным в начале девяностых, но так и не вернувшем себе былого величия имперской столицы и не обретшем нового, современного смысла. Это не дореволюционный Петербург: не город, воспетый в классической русской литературе как мираж и бесчеловечный умысел, не уютный эстетский мир Александра Бенуа и круга его единомышленников, и давно уже не сцена, на которой разворачивались события трех революций. Еще недавно сложно было избавиться от ощущения, что Санкт-Петербург девяностых-нулевых — это Постленинград, столько всего тут напоминало о советском времени. Цхэ пишет Петербург сегодня вне ретроспективного переживания советского опыта. Нет в его зарисовках ни остросоциальных или сатирических сюжетов, ни дикости ельцинских лет. Это не критика капитализма в третье десятилетие его существования в России. Неопетербург интересен тем, что живет своей жизнью большого города середины десятых годов. В этой жизни есть и буржуазная обыденность, на которую был острый глаз у любимца Бодлера Константина Гиса. Есть и жуть городских задворок, которую смаковали в своих работах Александр Арефьев и Нищенствующие живописцы. «НЕОПЕТЕРБУРГ» Цхэ проговаривает очевидную, но довольно неудобную для contemporary art мысль: современное искусство начинается с тех обязательных и заурядных вещей, из которых складывается наша жизнь. Как и во времена Татлина, оно может начаться прямо в садике Академии художеств, — да хотя бы возле дома, в котором держат пони.
Другой спор, в который ввязался Леонид Цхэ, работая над зарисовками из жизни современного Петербурга, пожалуй, еще более давний, чем поединок изобразительного искусства и визуальной машинерии. Цхэ — один из немногих на сегодняшний день выпускников и преподавателей Академии художеств, которому интересно искать точки соприкосновения между этой консервативной школой и contemporary art. Храм изящных искусств на Университетской набережной был, есть и будет главным оппонентом современного искусства в России и едва ли не самым надежным оправданием его существования на наших бескрайних просторах. И передвижники, и авангардисты начала прошлого века, и позднесоветские нонконформисты, искавшие свой эстетический опыт и признание в актуальных художественных практиках, неоднократно испытывали на прочность узы, которые связывали их с искусством в классическом понимании. Башню Третьего Интернационала Владимир Татлин строил в мастерской Павла Чистякова, у которого учились чуть ли не все русские художники рубежа веков. Предварительно Татлин выбросил мозаичные наборы мэтра, занимавшие слишком много места.
Живопись Цхэ — выход за границы «школы», освобождение от установок академического рисунка и навыков художника-станковиста. Это настаивание на своем и попытка быть живописцем на свой лад, оставаясь в стенах Академии. В союзниках у Цхэ пережившие подобный опыт гранды современного искусства Нео Раух, Люк Тёйманс или Питер Дойг. Впрочем, спор, который возобновил Цхэ, пока что соизмерим не с дискуссиями на международной арт-сцене, но в первую очередь с местным художественным контекстом и возможностями его расширения до той жизни, которая разворачивается в Дюссельдорфской академии художеств, в галереях в Челси на Манхэттене или на международных арт-фестивалях. Параллельно в Европе сегодня работает как минимум два поколения художников, увлеченных теми же проблемами в живописи, которые занимают петербургского живописца. Однако местная специфика состоит в том, что нигде уже не осталось такого раритета, как наша Академия художеств в ее девятнадцативечном состоянии. Это придает творчеству многих наших художников особенное петербургское обаяние.
Photo-based painting, взятая на вооружение в полемике с академическим искусством, слагается из нескольких художественных языков. Жестуальная абстракция расшатывает устои академической живописи. «Школы» больше нет и в помине, когда фигуры выписываются приплясывающими загогулинами, лихими мазками и от души поставленными кляксами. При пристальном рассматривании плоскость картины тонет в вавилонском многоцветье, где мазки и потеки собраны в броский хаотический узор. Экспрессия жестуальной абстракции остужена белизной холста. На некоторых картинах не записано три четверти плоскости, и броские пятна фигур зависают в зияющей пустоте отрывочного рассказа. Предварительные границы картины намечены неуверенной карандашной линией, подрамник же взят шире. Другие карандашные наброски обозначают силуэт одного из персонажей или часть пейзажа. Эта живопись способна вобрать в себя и графический рисунок, и белое на белом для того, чтобы быть картиной в классическом понимании. Перед нами плоскостное коллажированное изображение, претендующее свидетельствовать о реальности.
Выставка Леонида Цхэ рассказывает о Неопетербурге — городе, которые уже более двадцати лет живет с именем, возвращенным в начале девяностых, но так и не вернувшем себе былого величия имперской столицы и не обретшем нового, современного смысла. Это не дореволюционный Петербург: не город, воспетый в классической русской литературе как мираж и бесчеловечный умысел, не уютный эстетский мир Александра Бенуа и круга его единомышленников, и давно уже не сцена, на которой разворачивались события трех революций. Еще недавно сложно было избавиться от ощущения, что Санкт-Петербург девяностых-нулевых — это Постленинград, столько всего тут напоминало о советском времени. Цхэ пишет Петербург сегодня вне ретроспективного переживания советского опыта. Нет в его зарисовках ни остросоциальных или сатирических сюжетов, ни дикости ельцинских лет. Это не критика капитализма в третье десятилетие его существования в России. Неопетербург интересен тем, что живет своей жизнью большого города середины десятых годов. В этой жизни есть и буржуазная обыденность, на которую был острый глаз у любимца Бодлера Константина Гиса. Есть и жуть городских задворок, которую смаковали в своих работах Александр Арефьев и Нищенствующие живописцы. «НЕОПЕТЕРБУРГ» Цхэ проговаривает очевидную, но довольно неудобную для contemporary art мысль: современное искусство начинается с тех обязательных и заурядных вещей, из которых складывается наша жизнь. Как и во времена Татлина, оно может начаться прямо в садике Академии художеств, — да хотя бы возле дома, в котором держат пони.
Станислав Савицкий