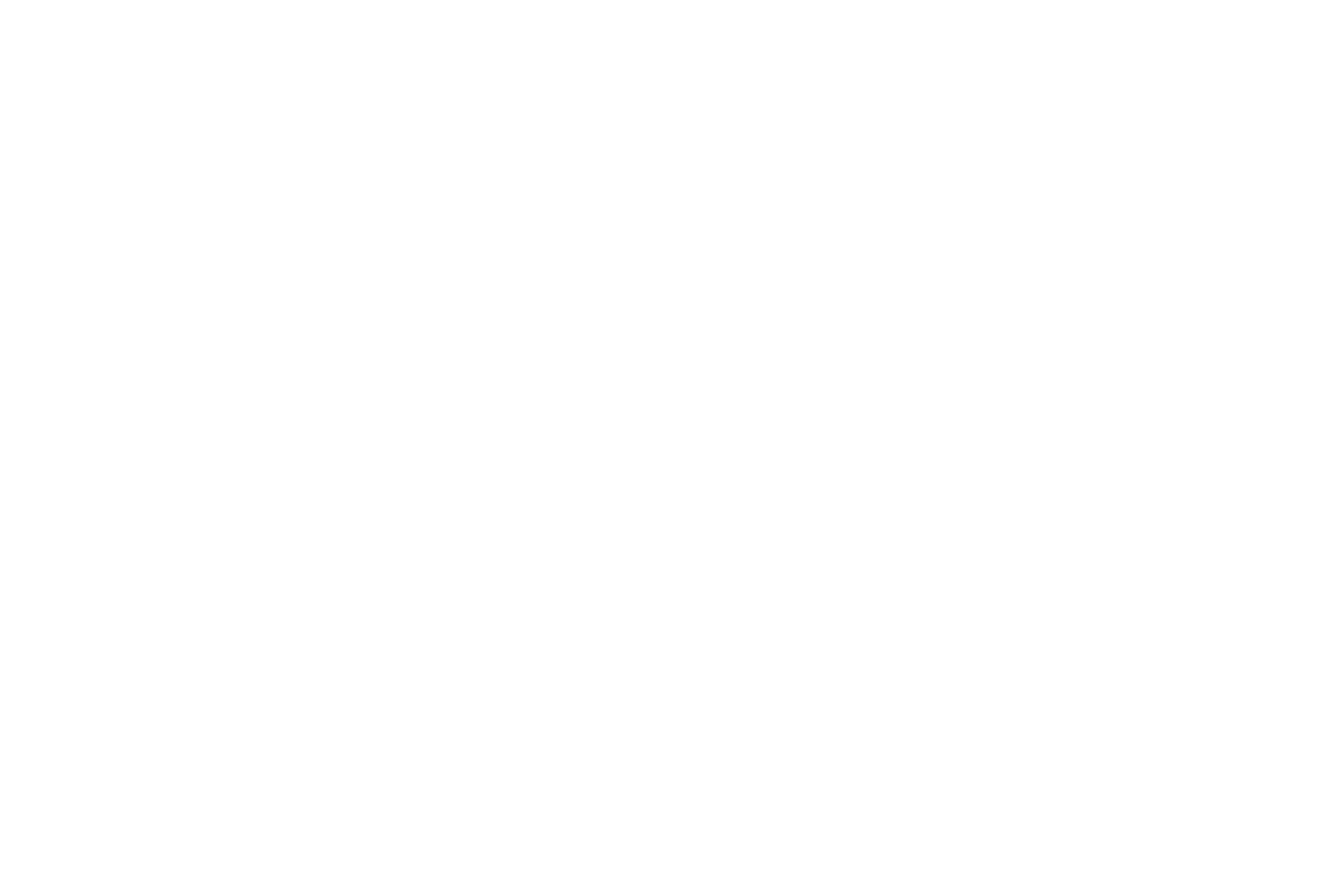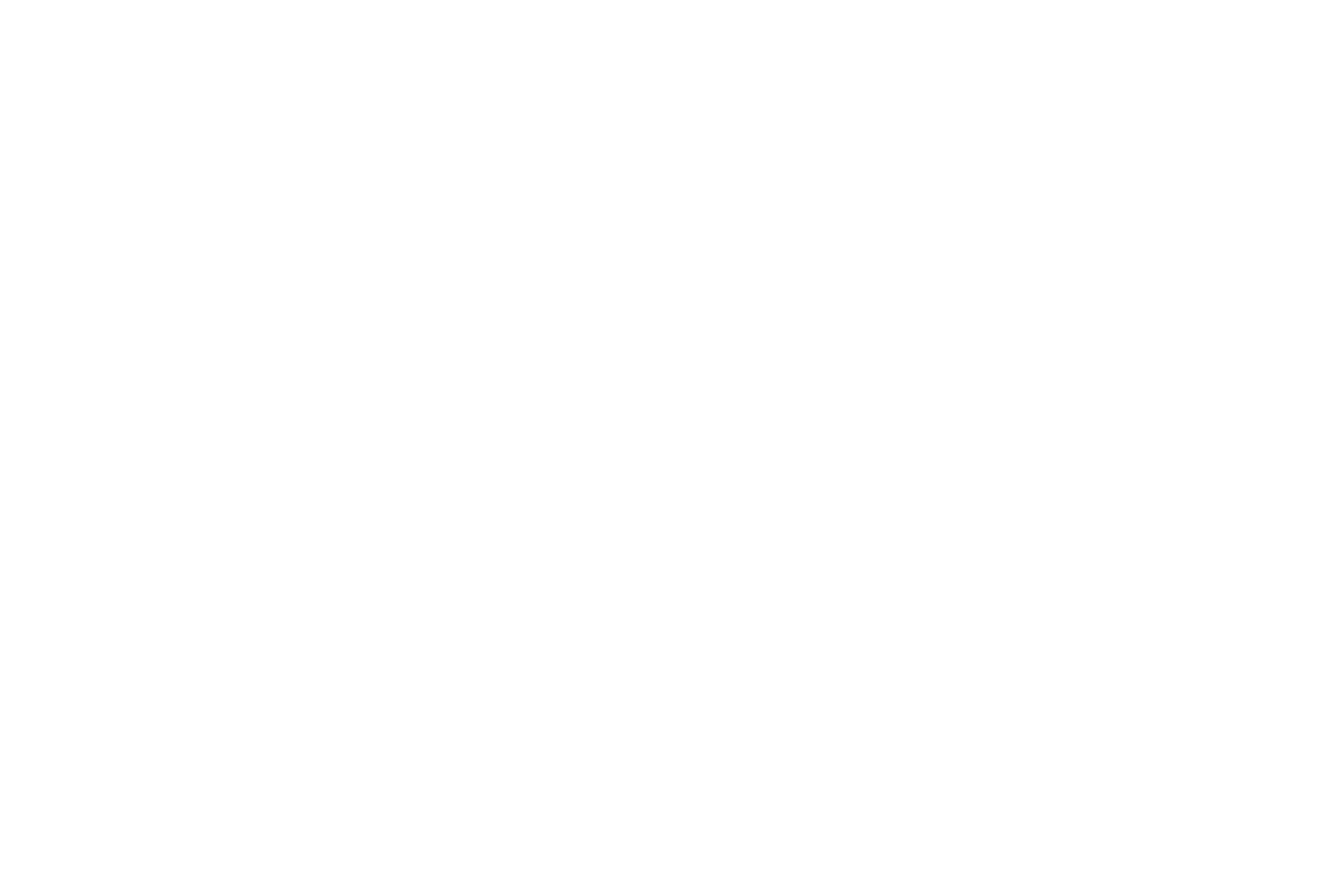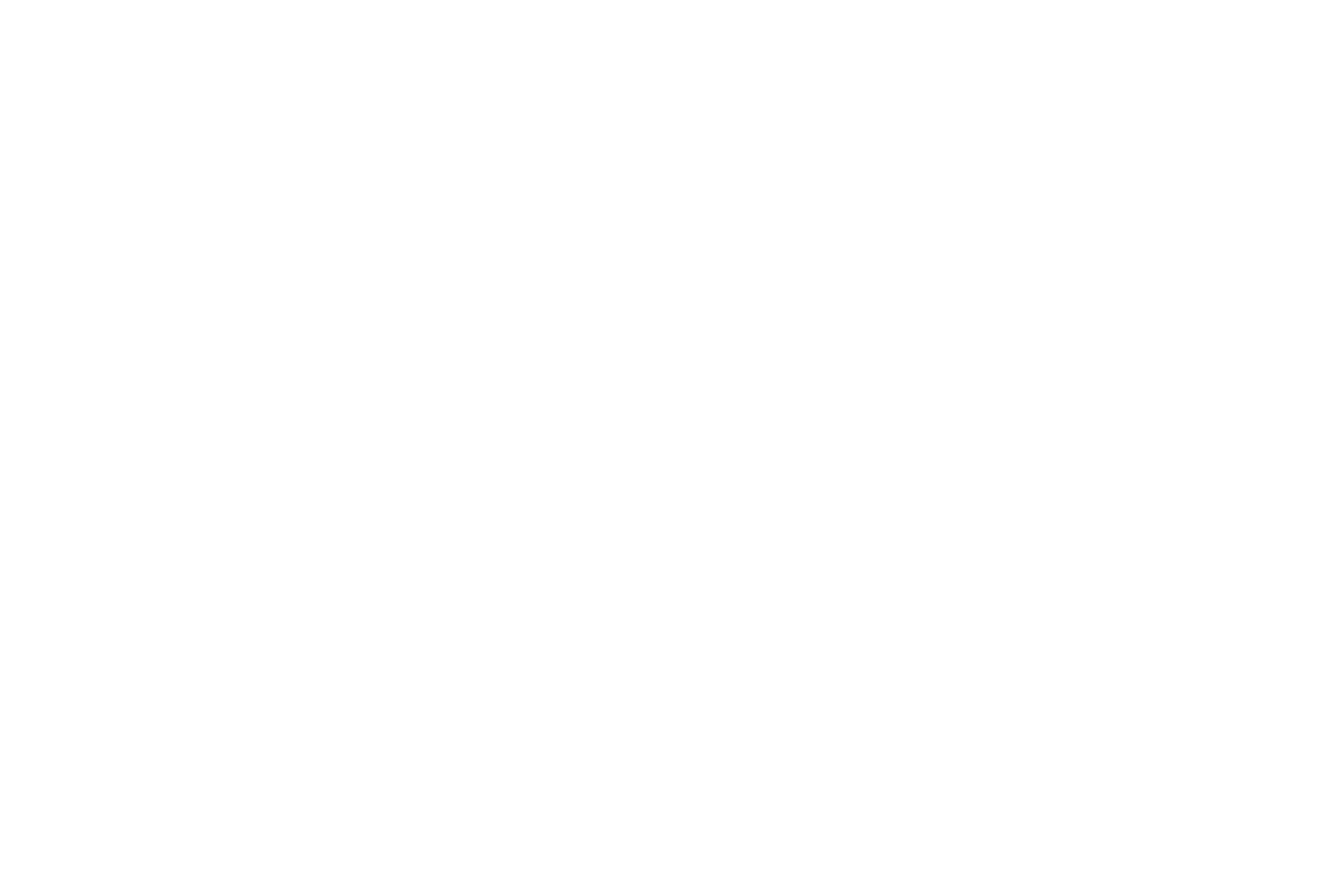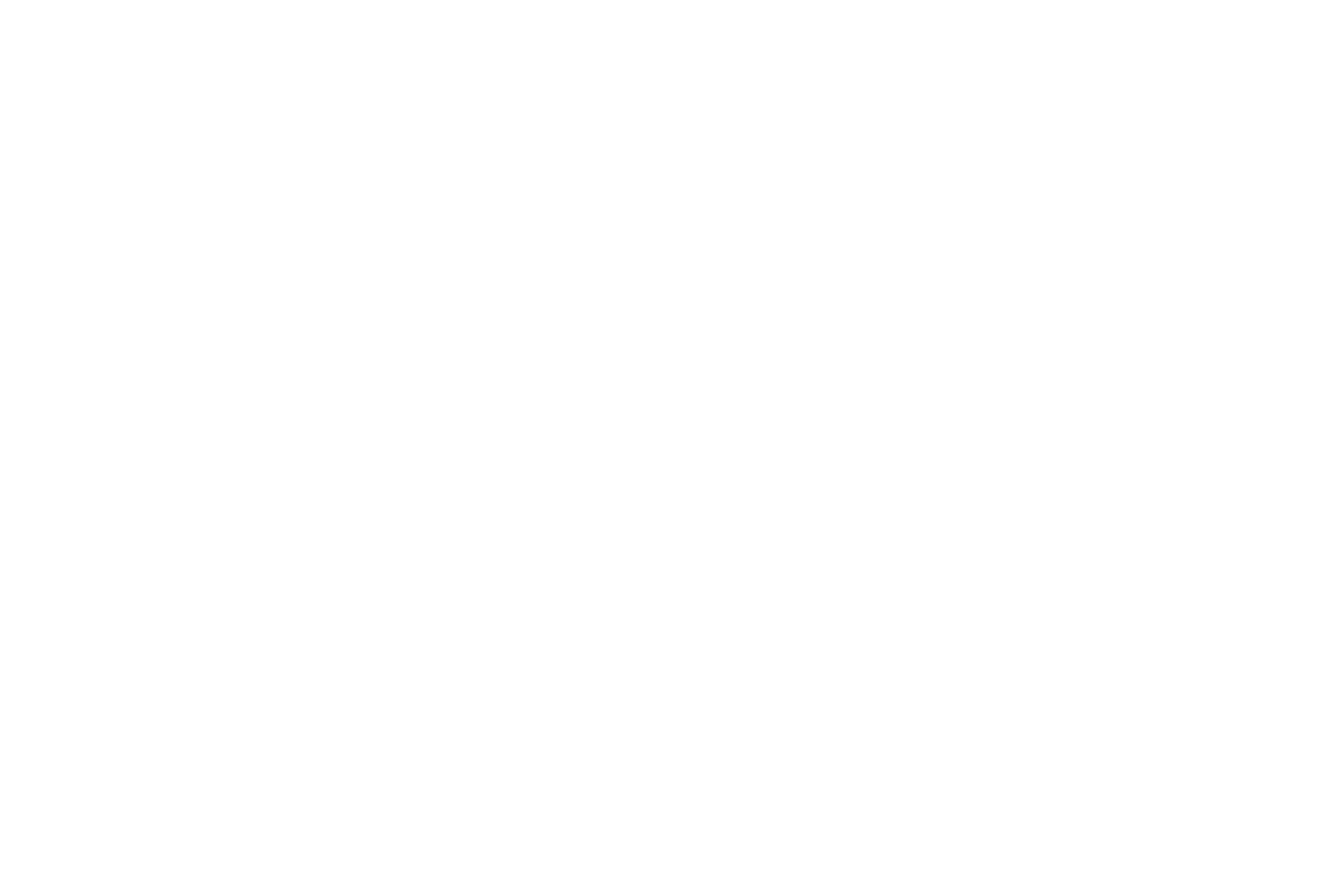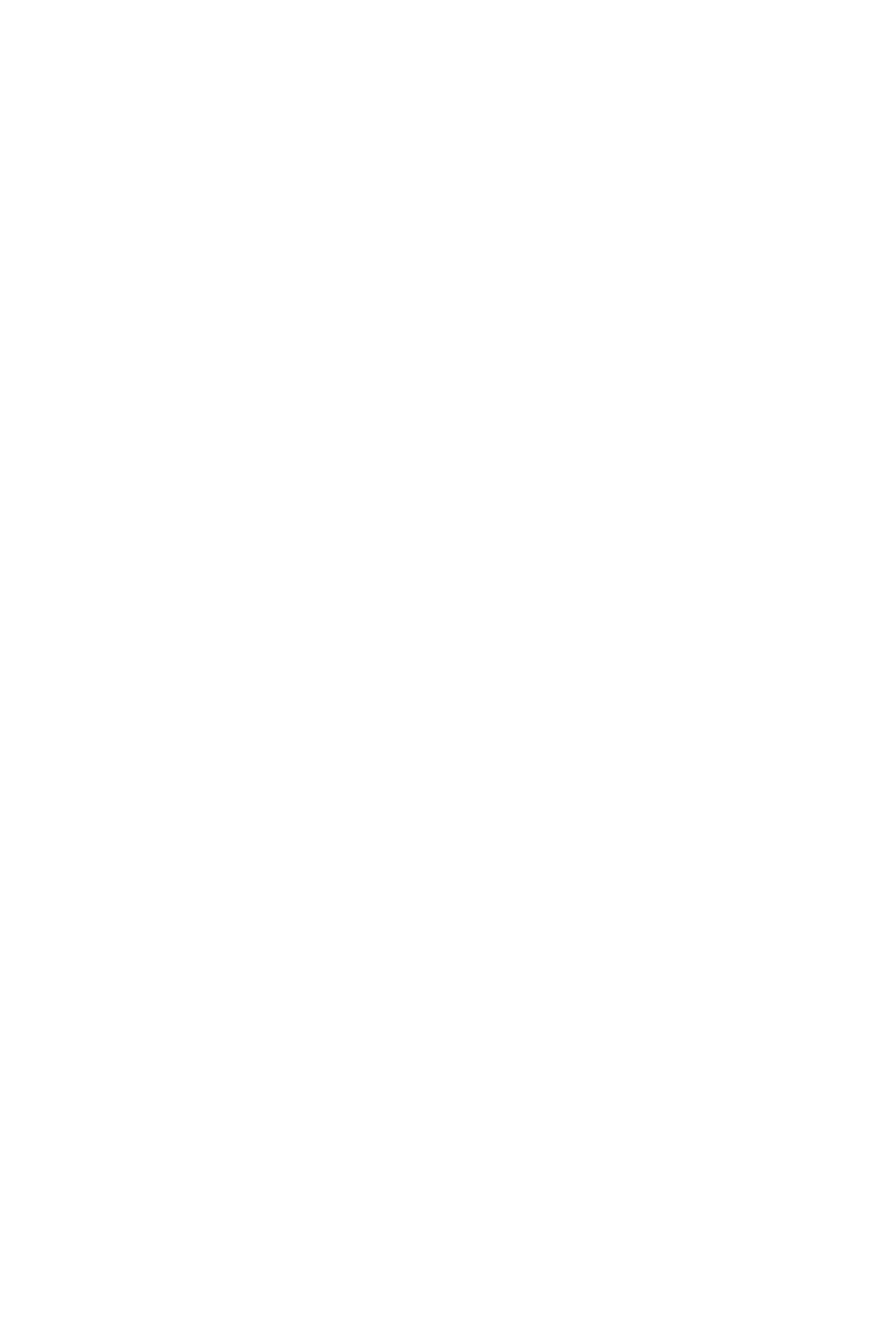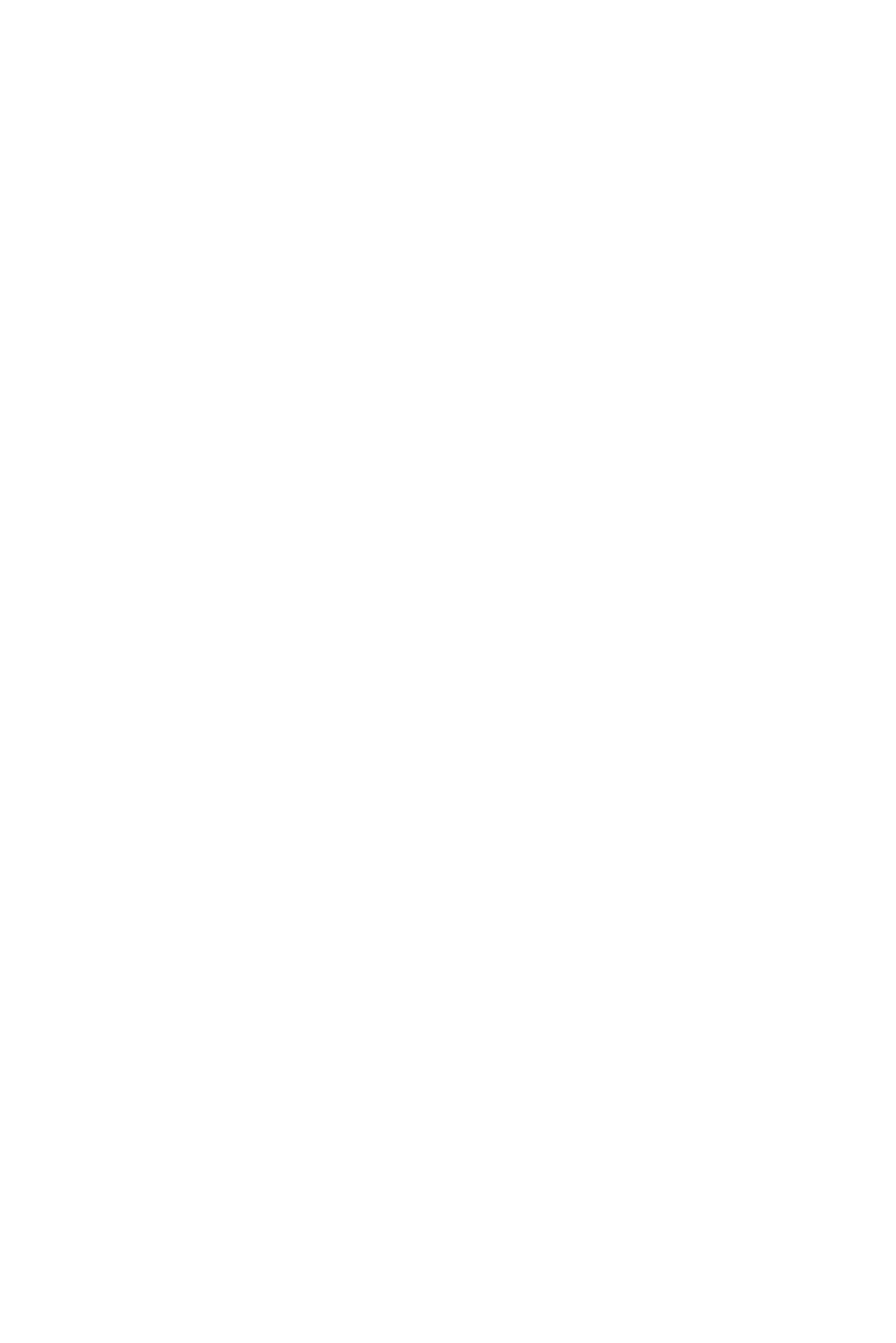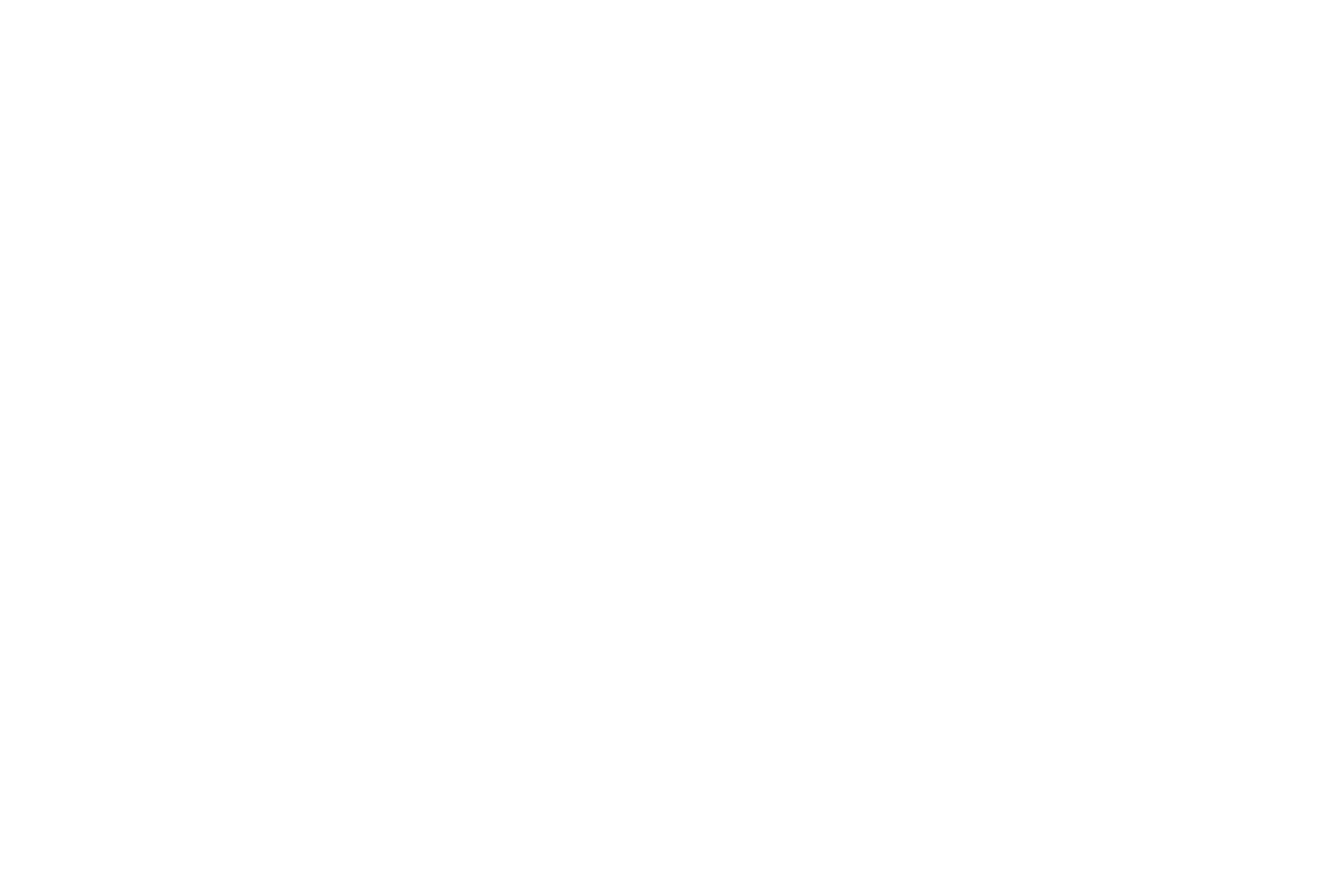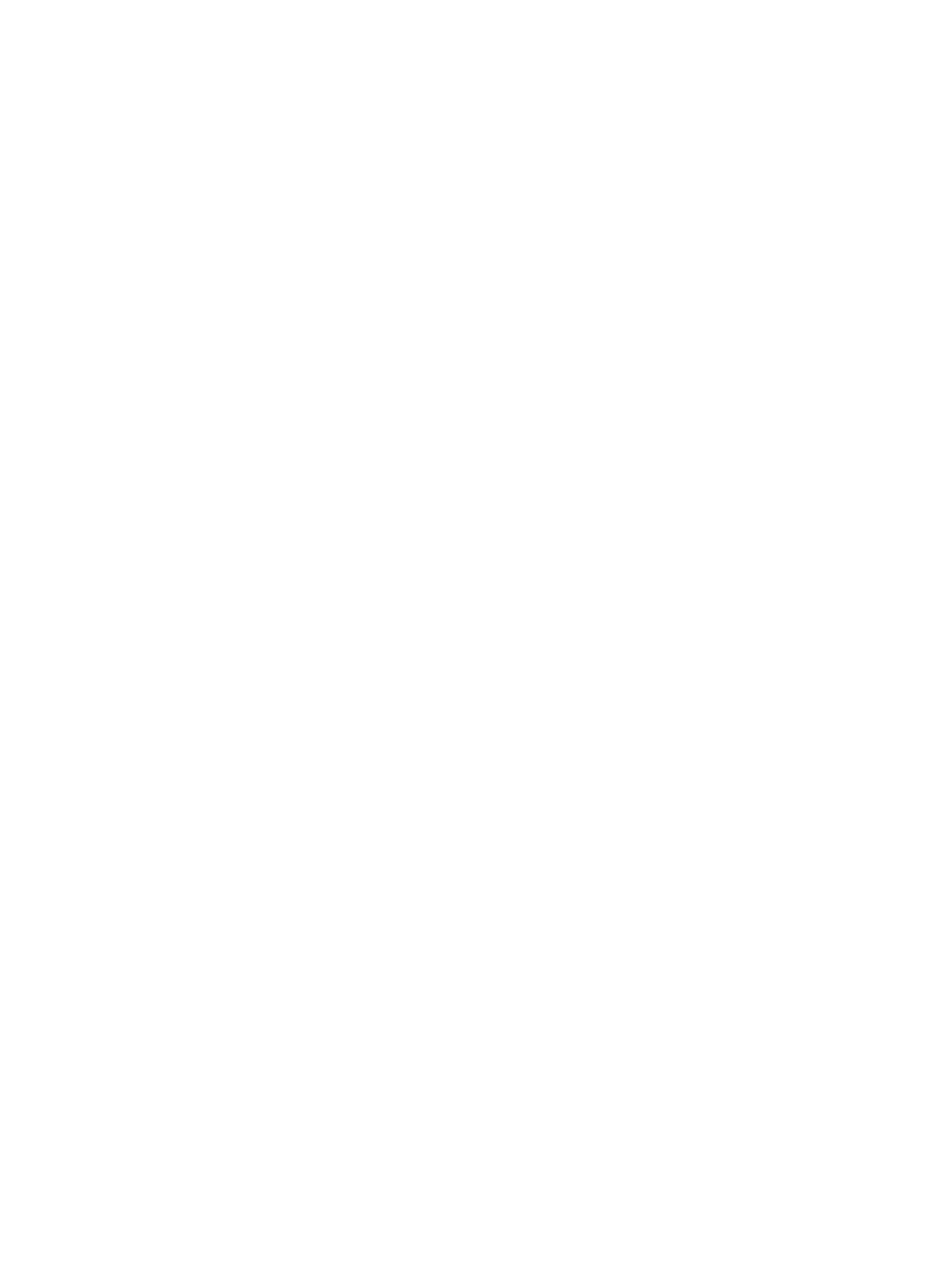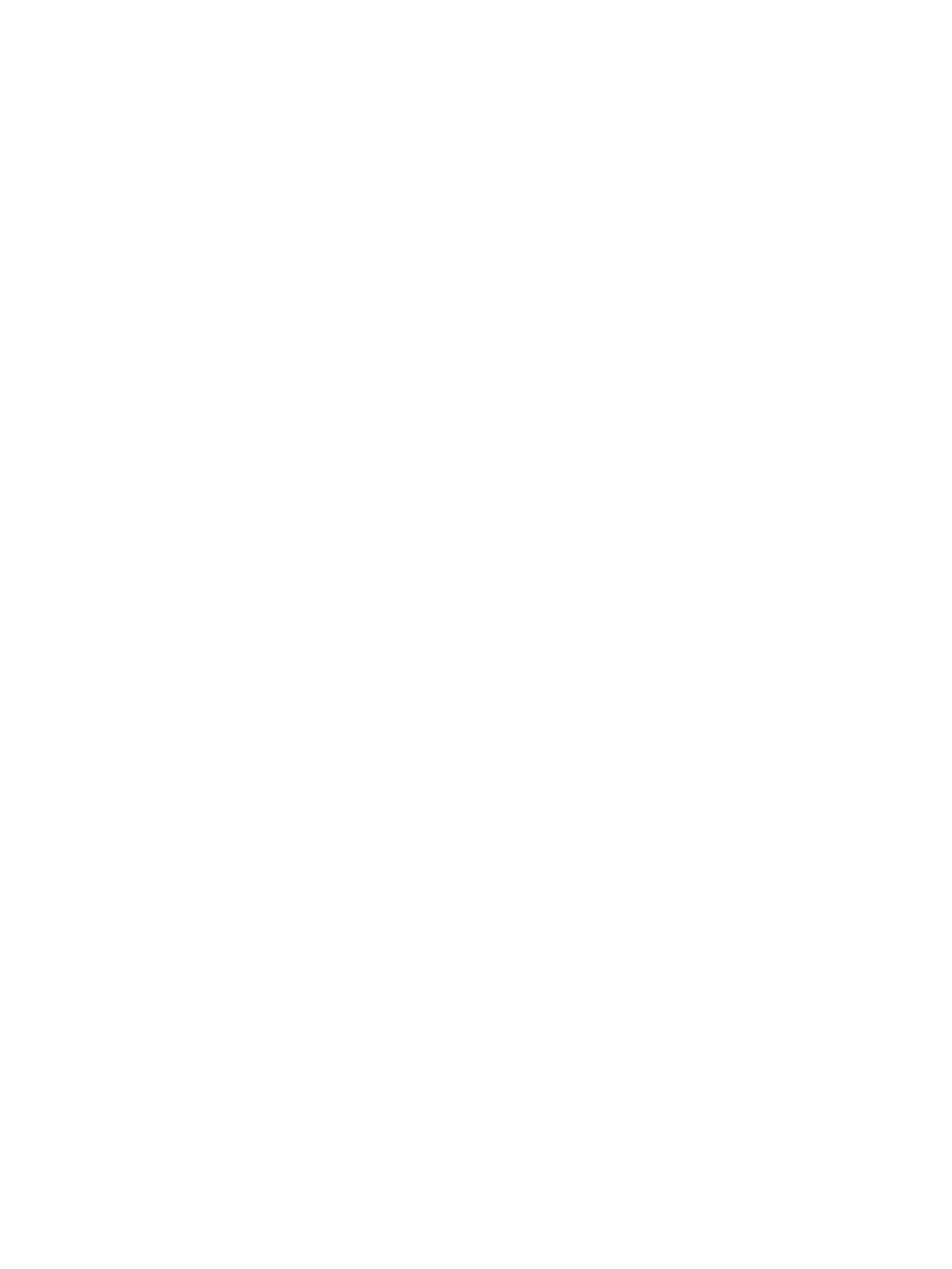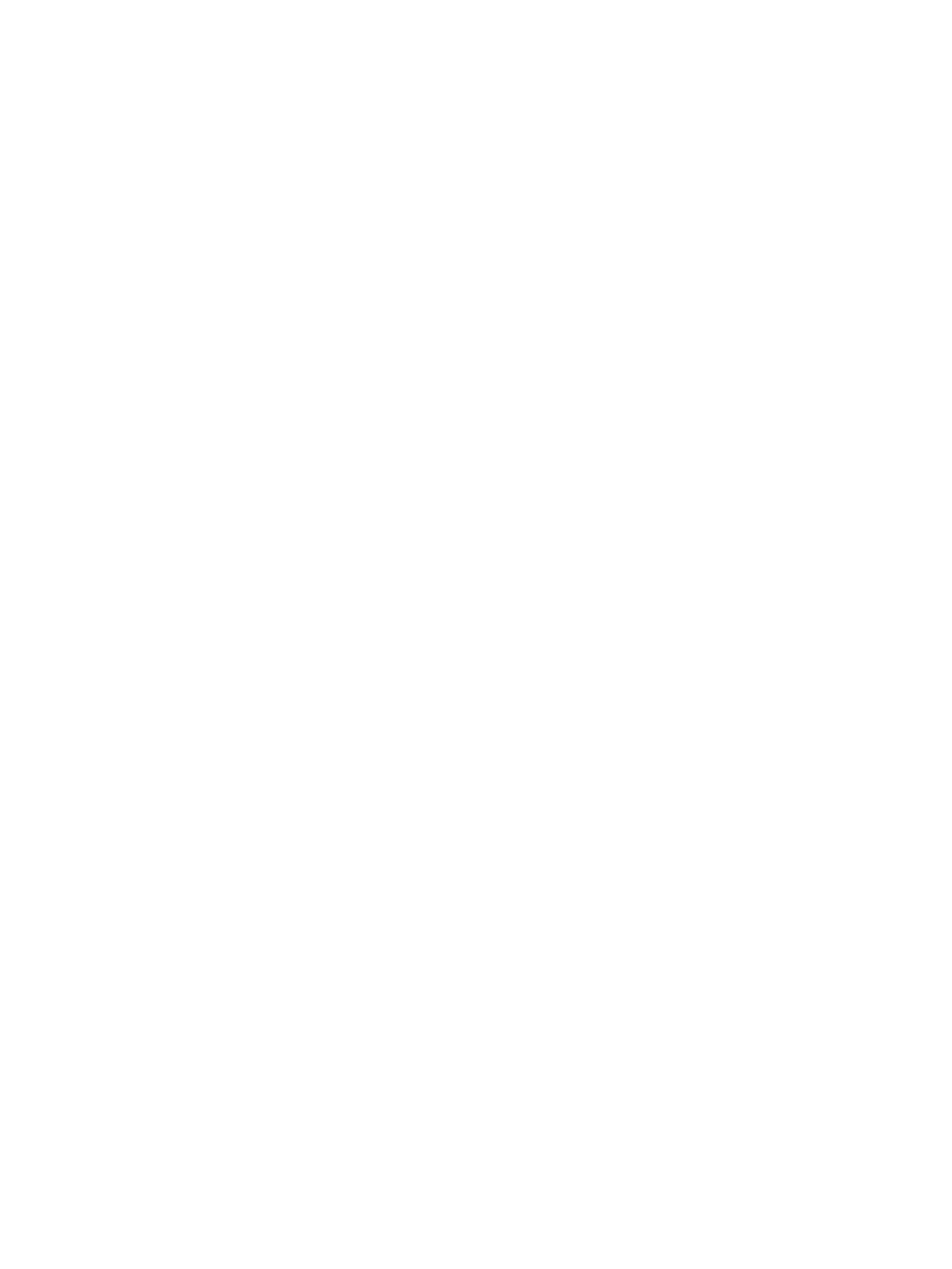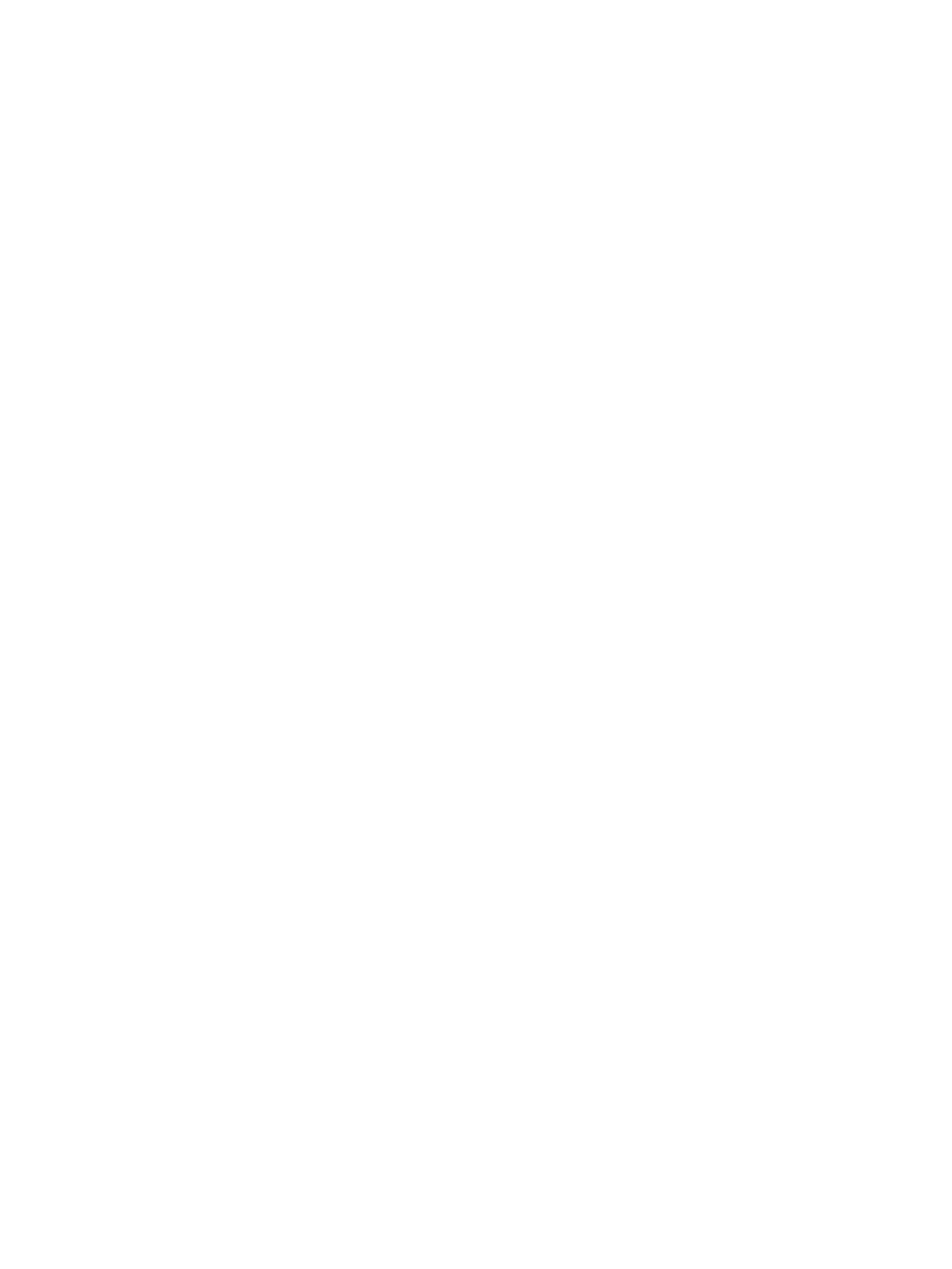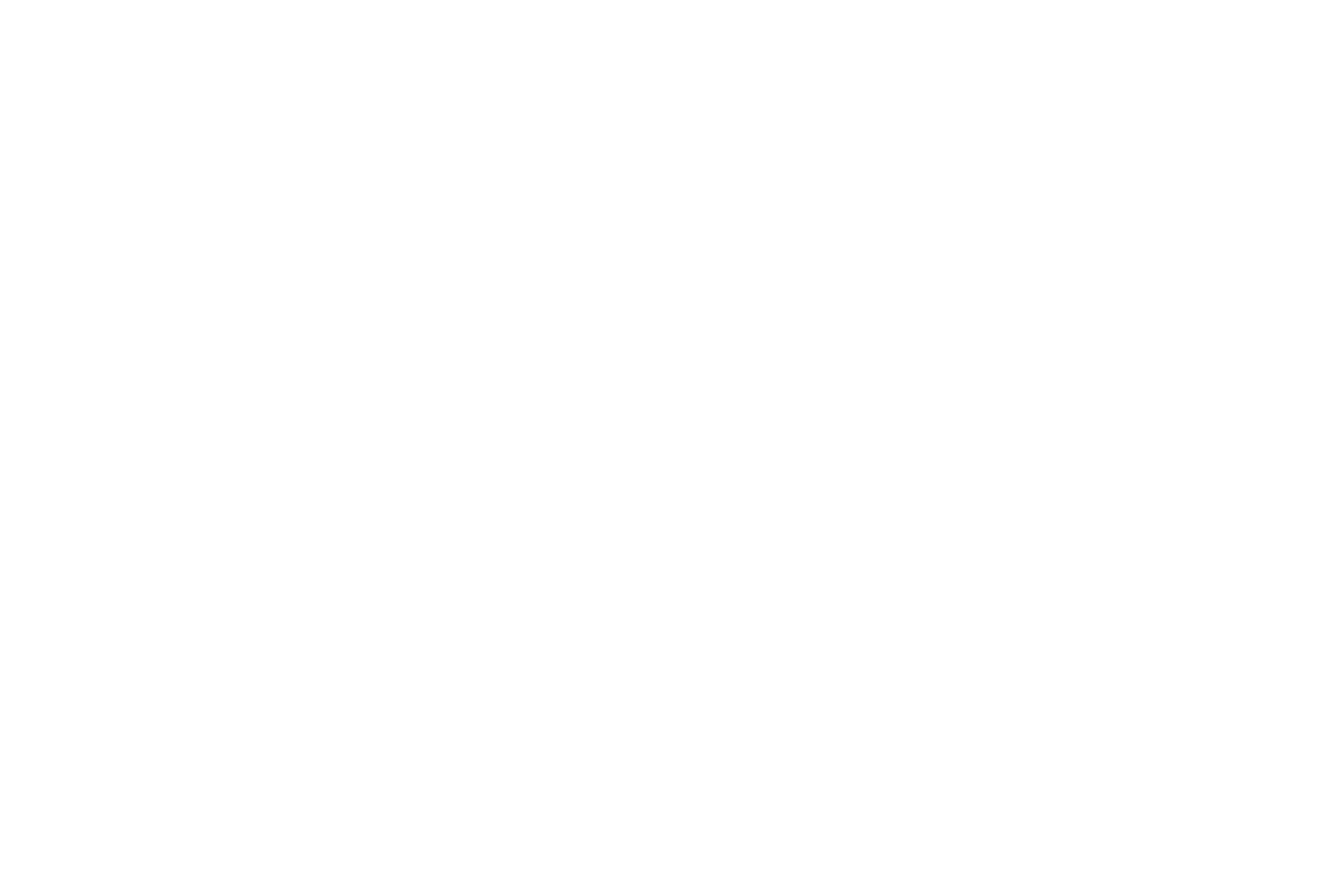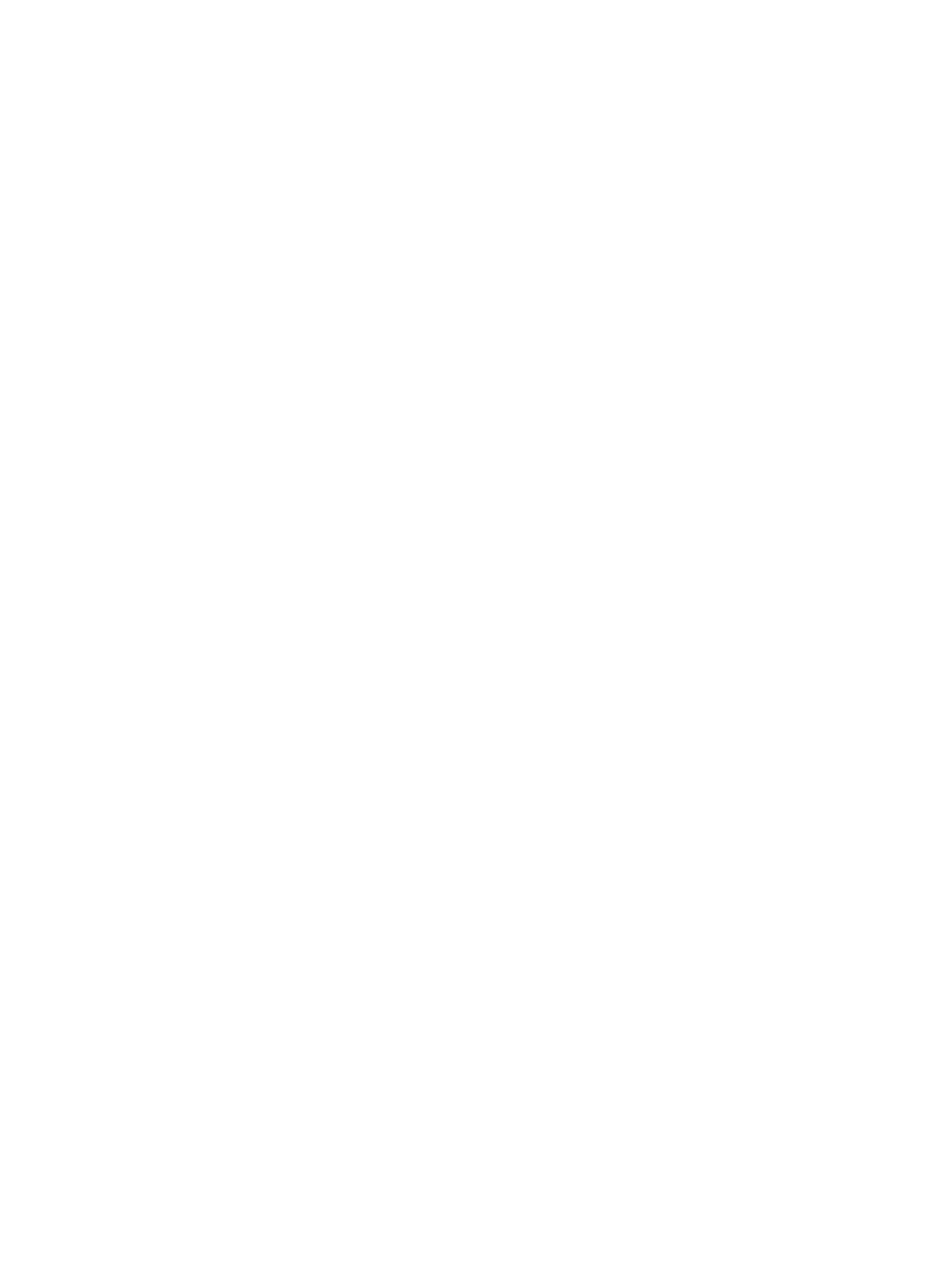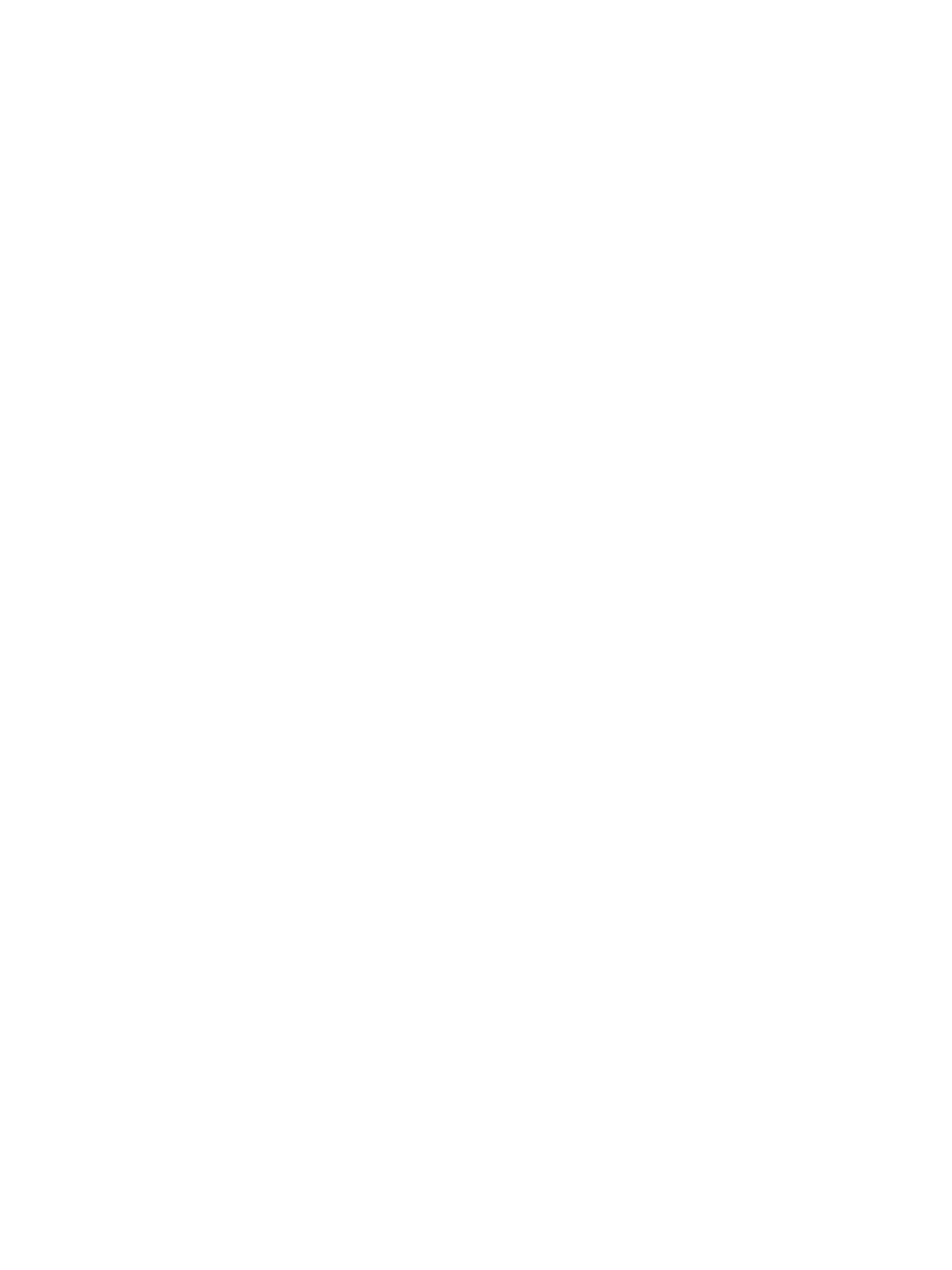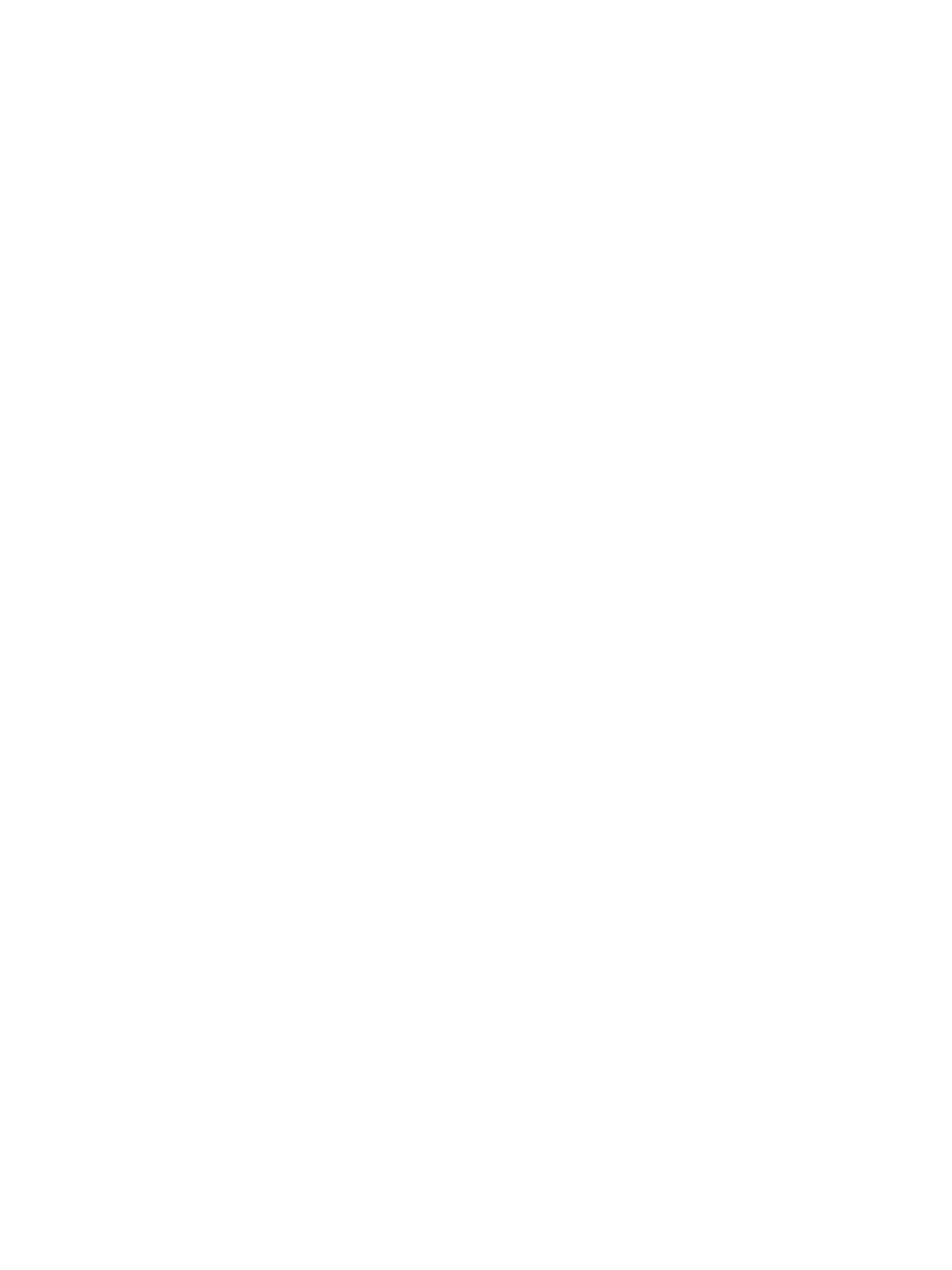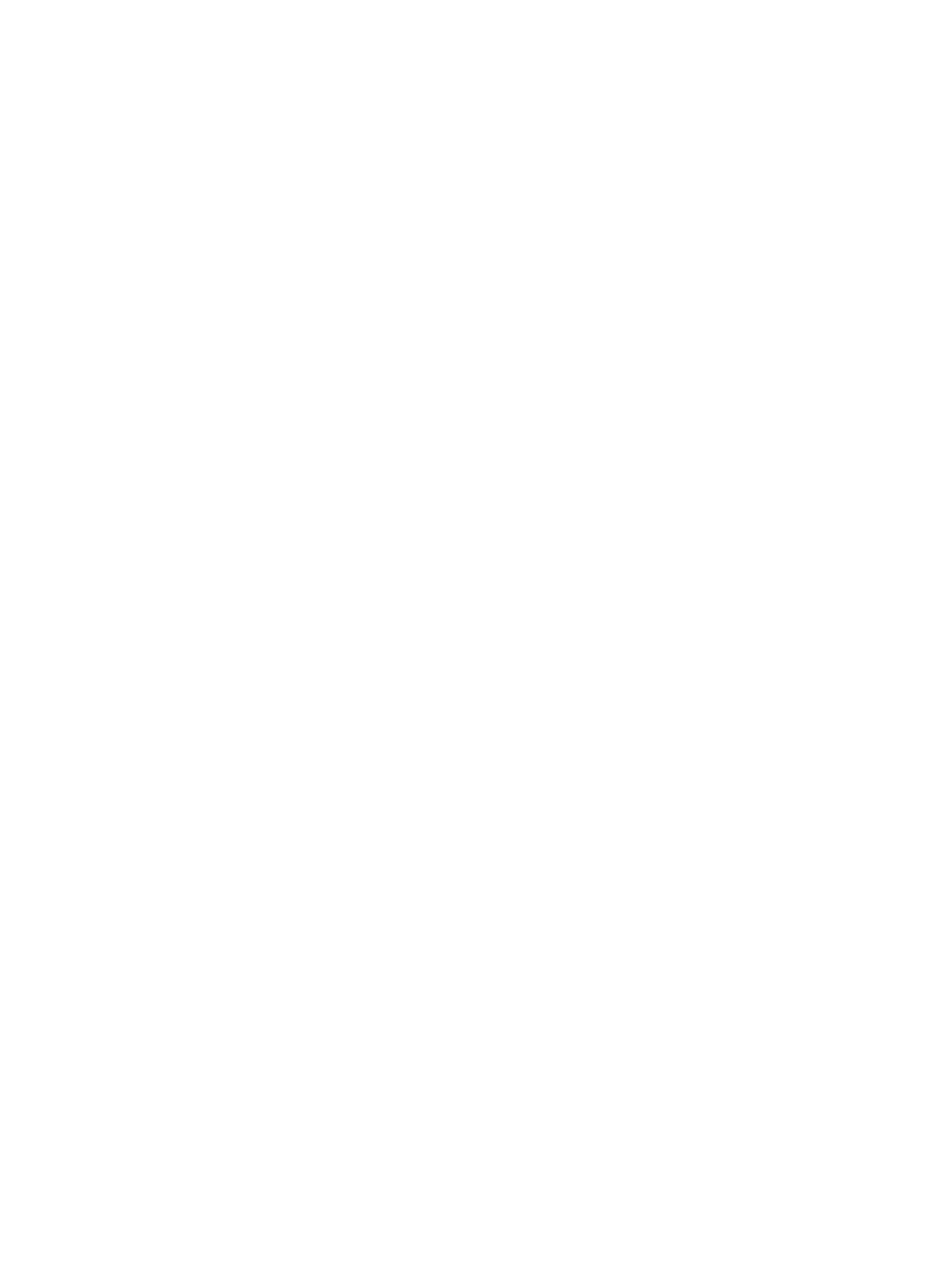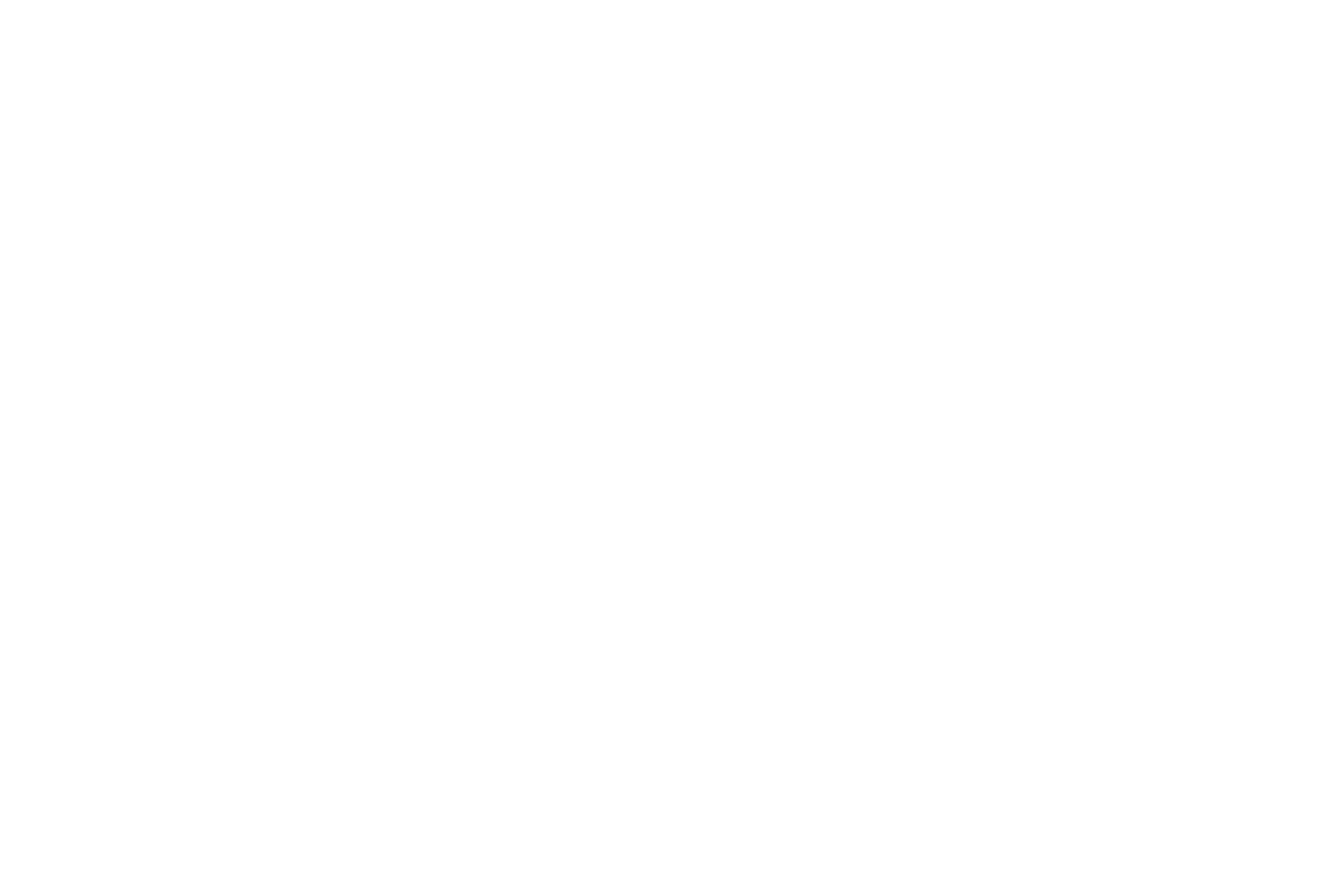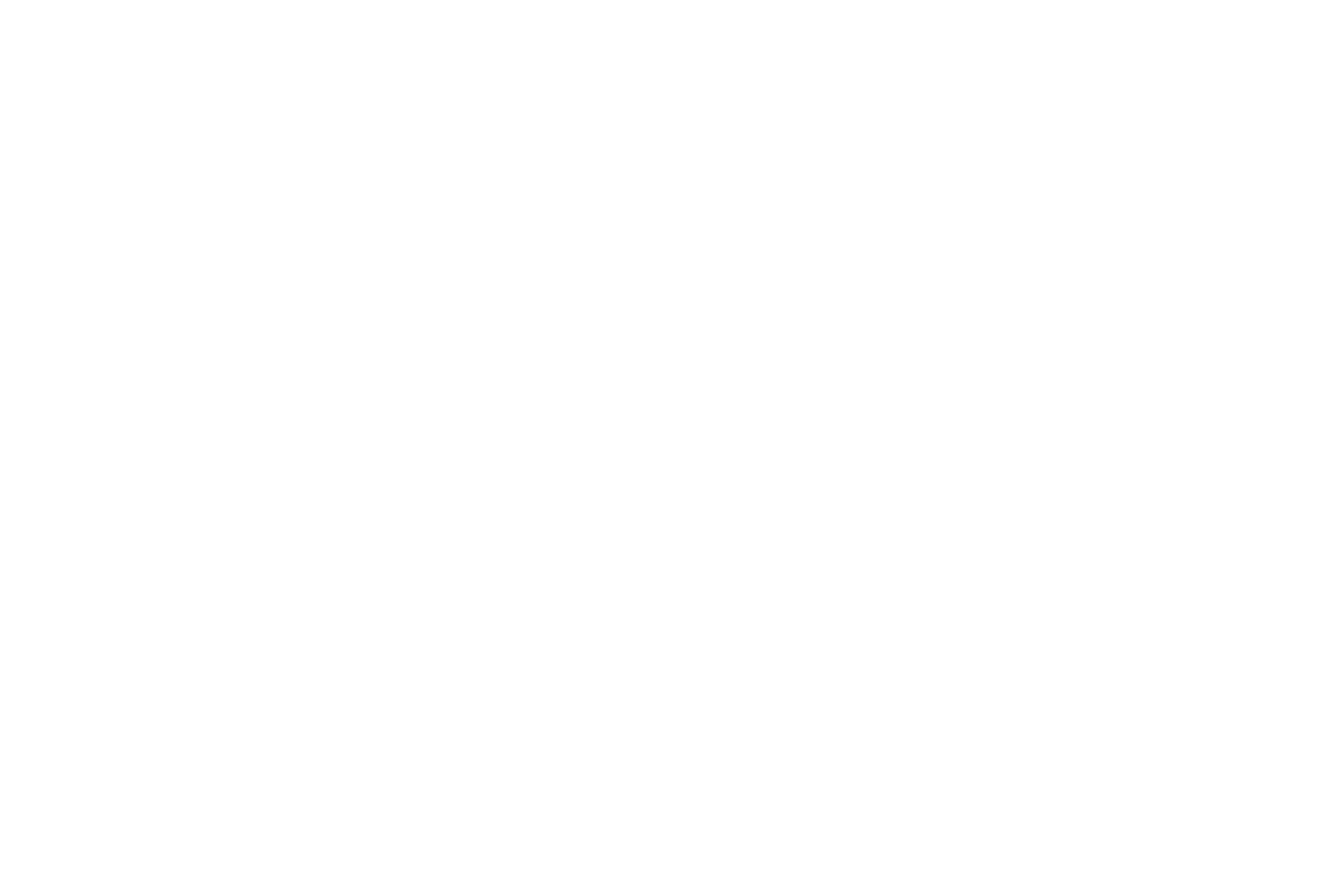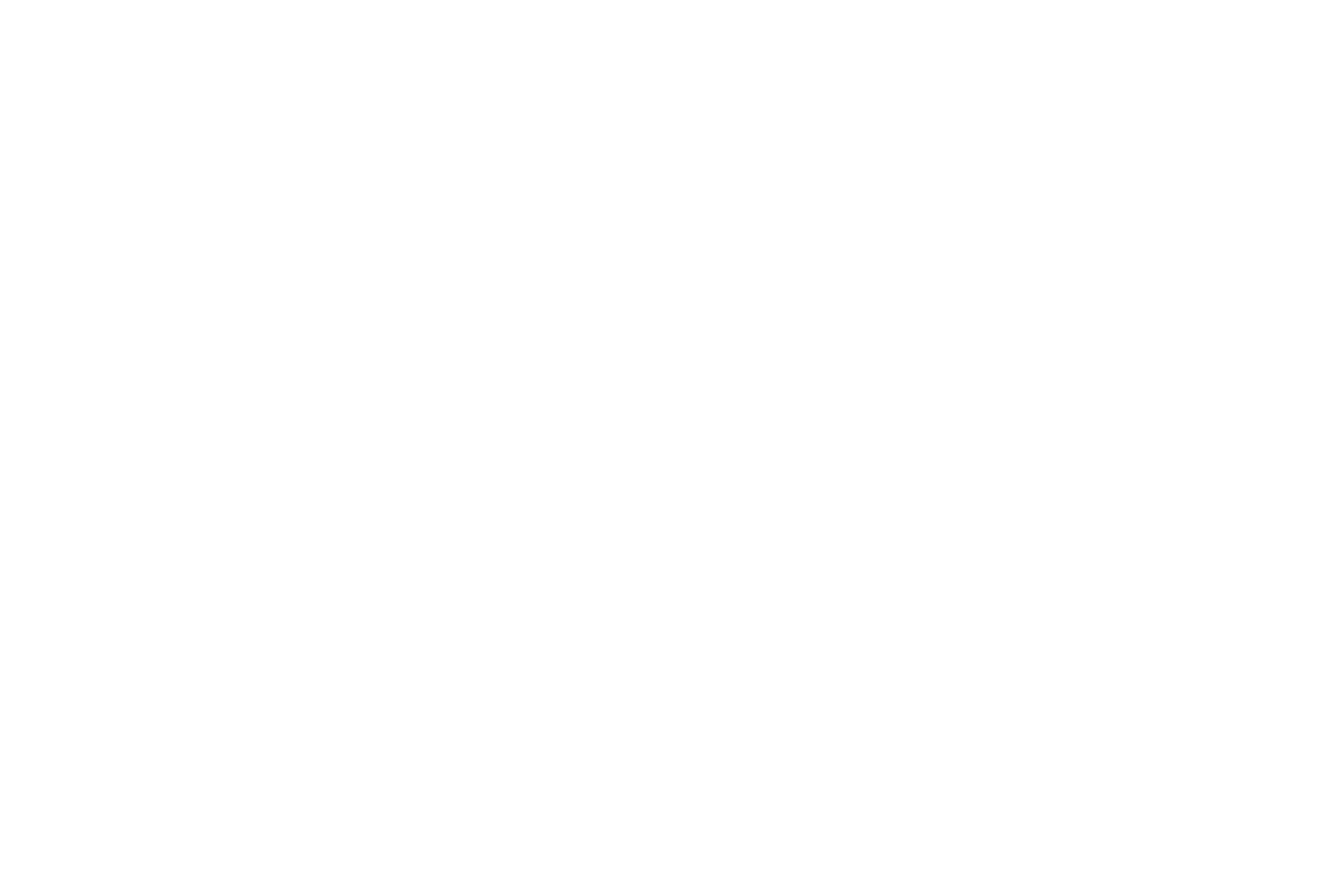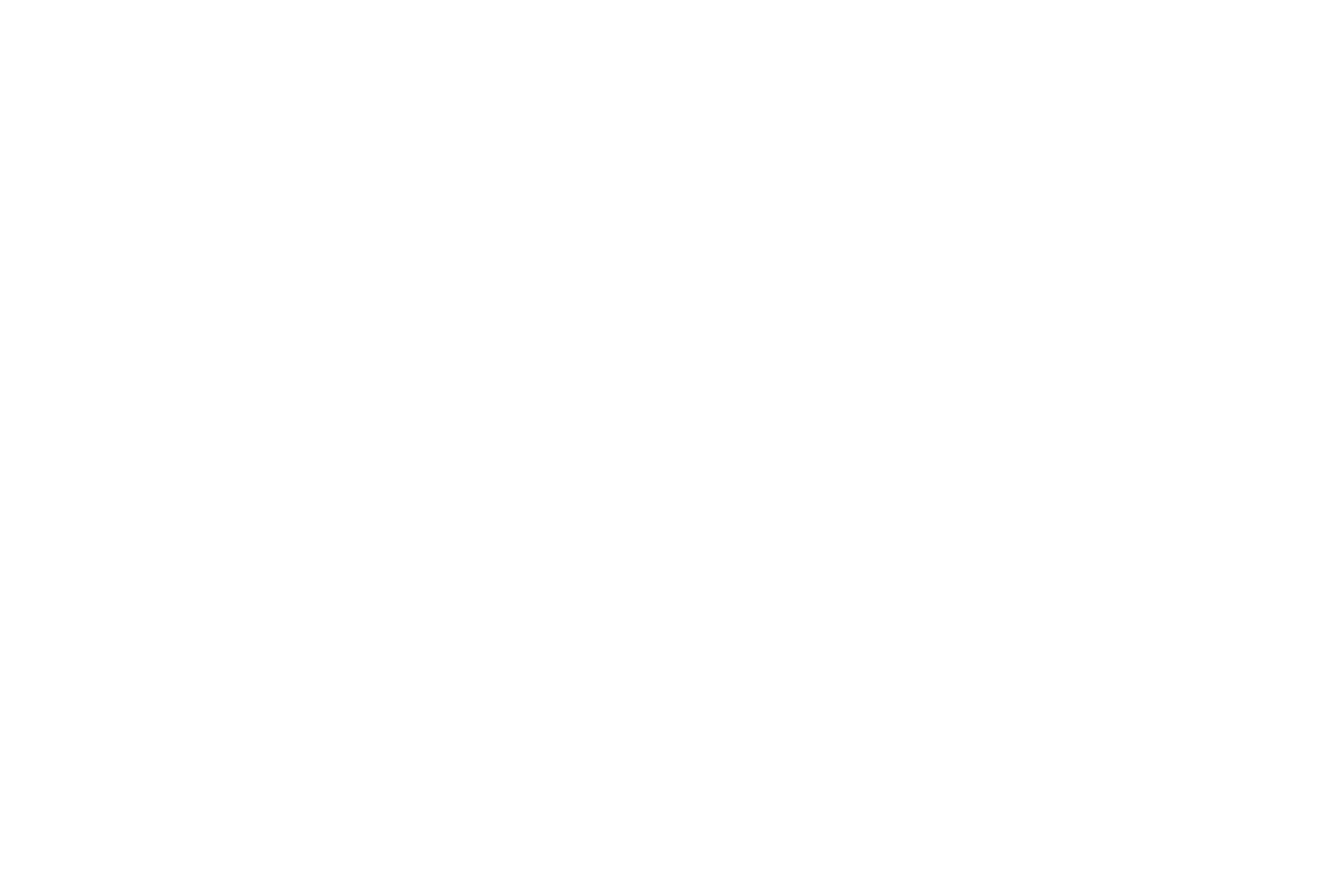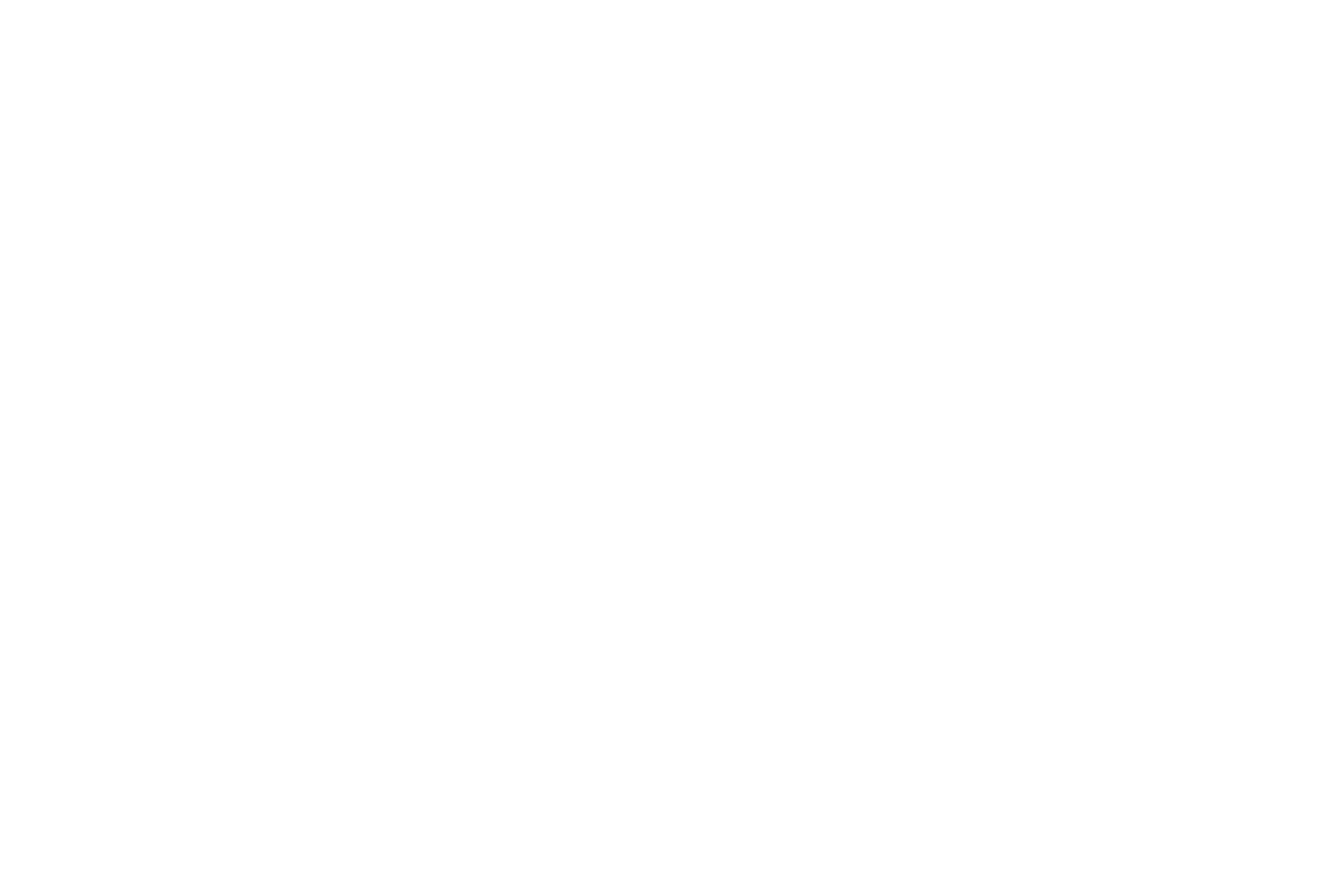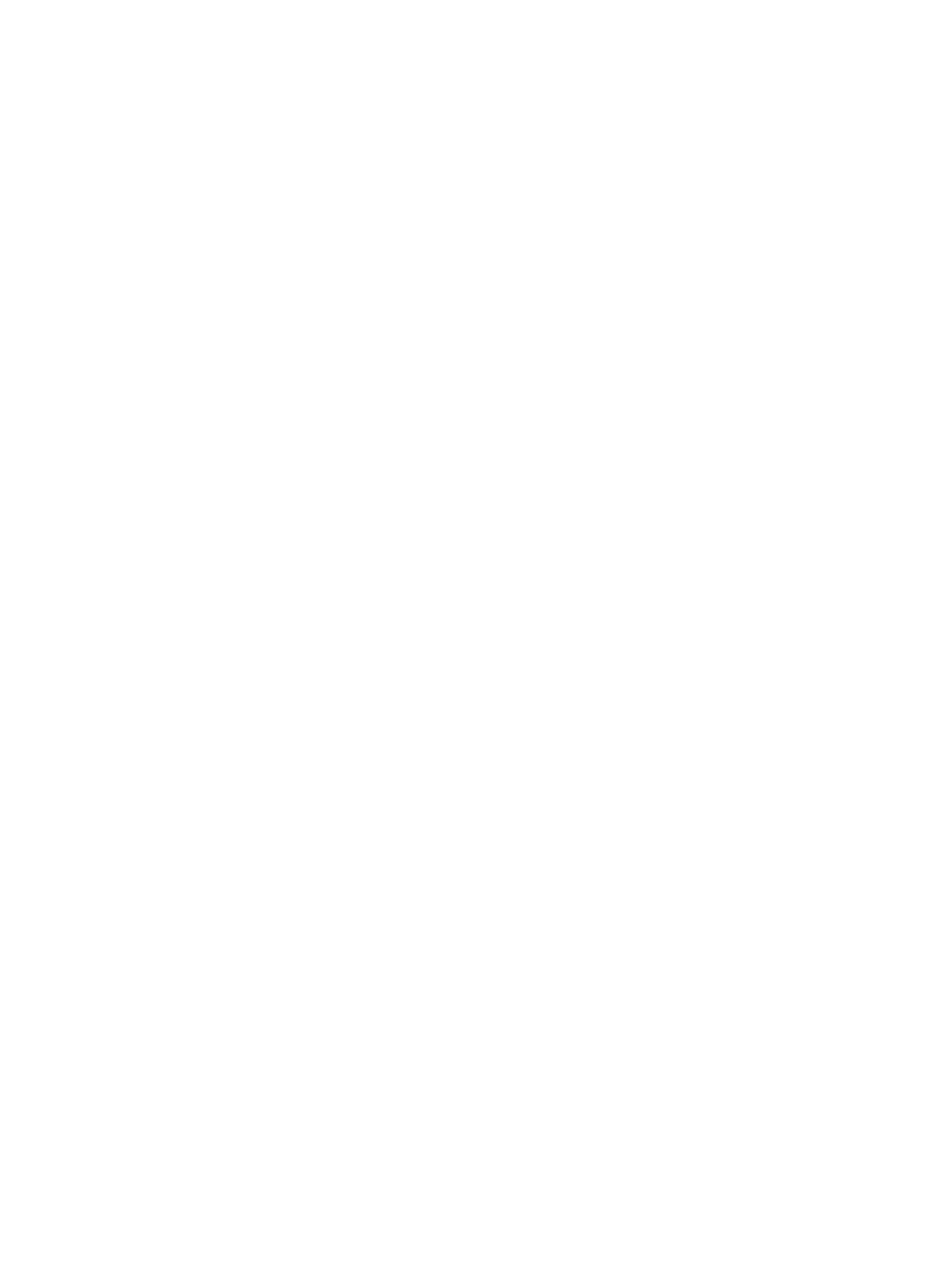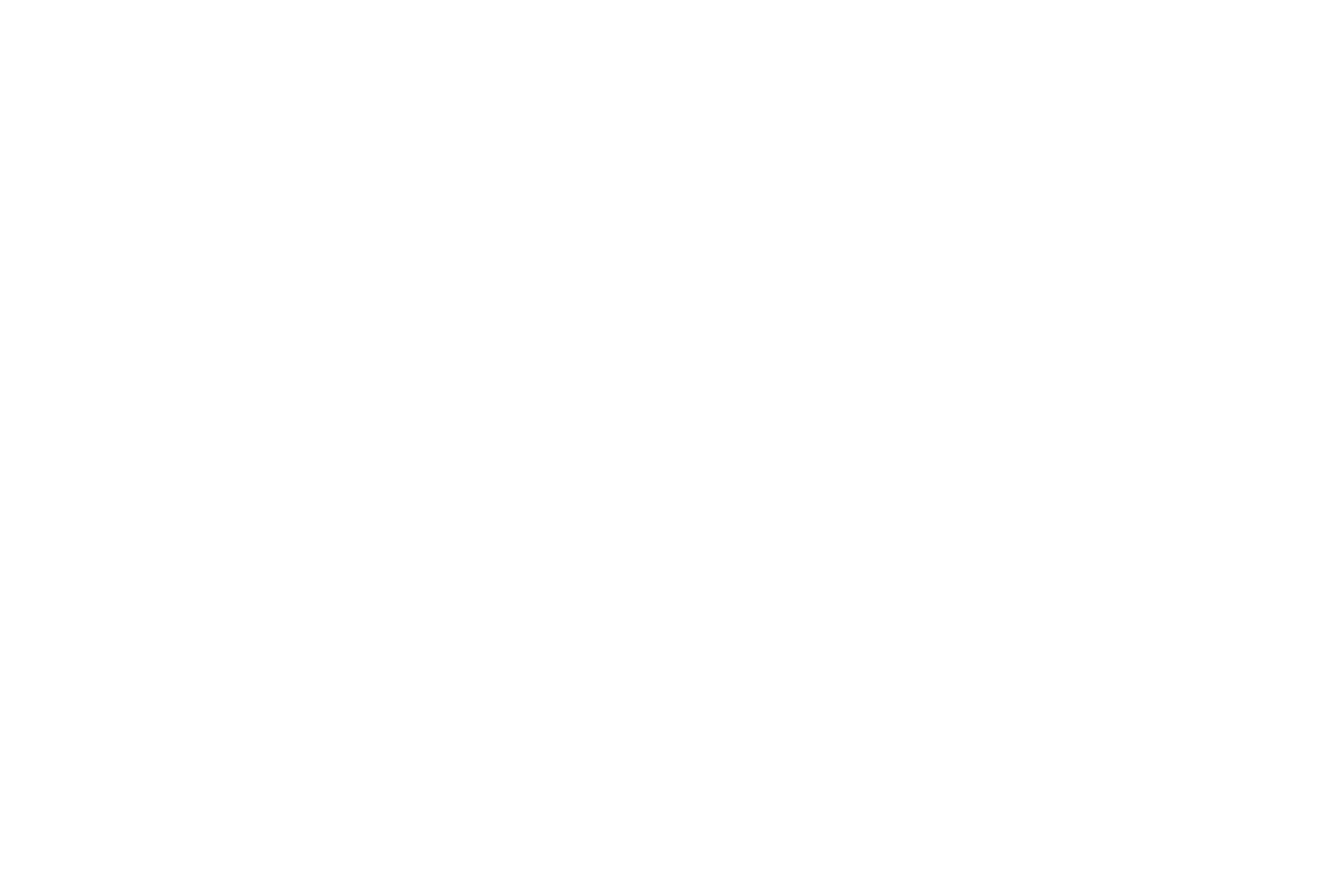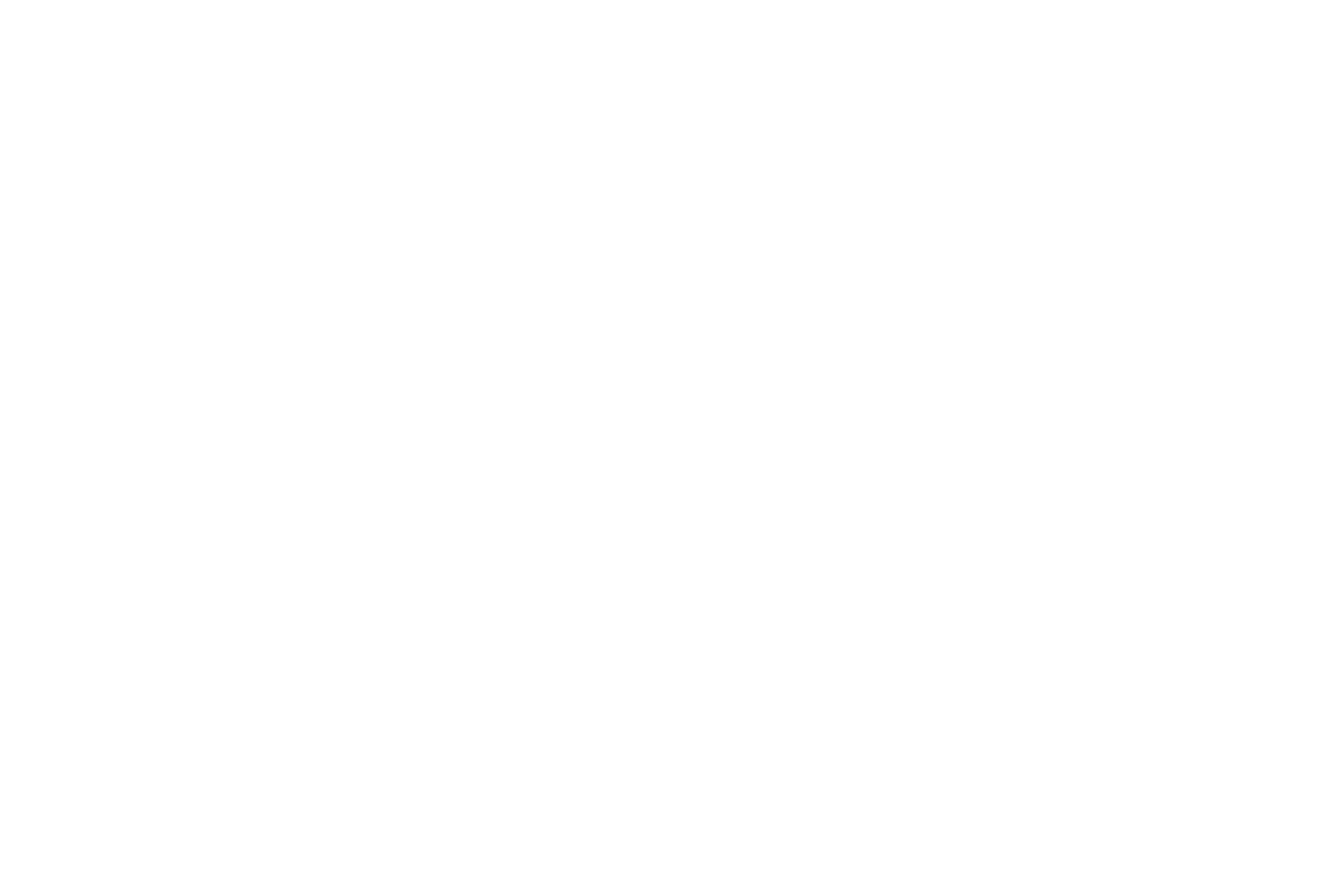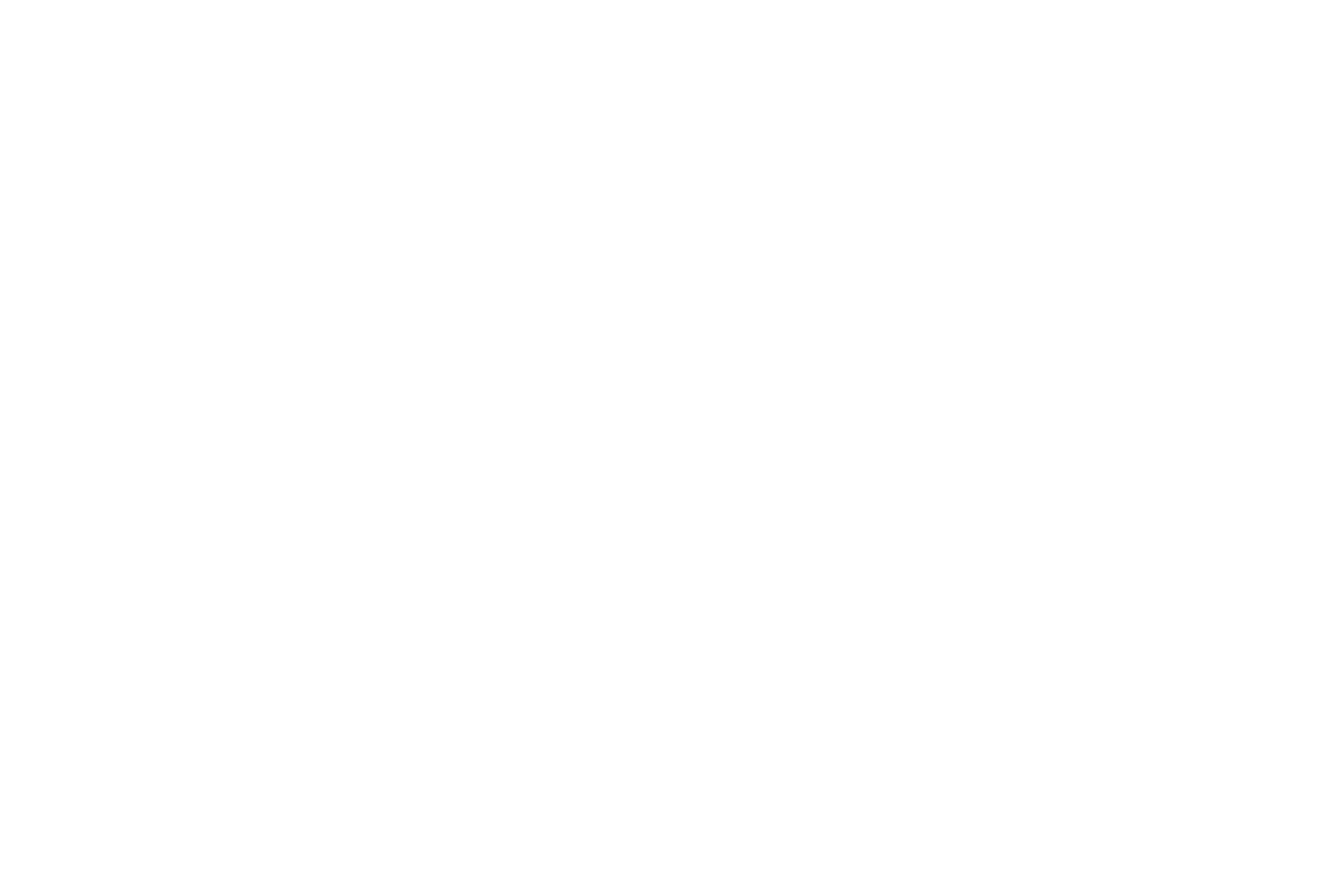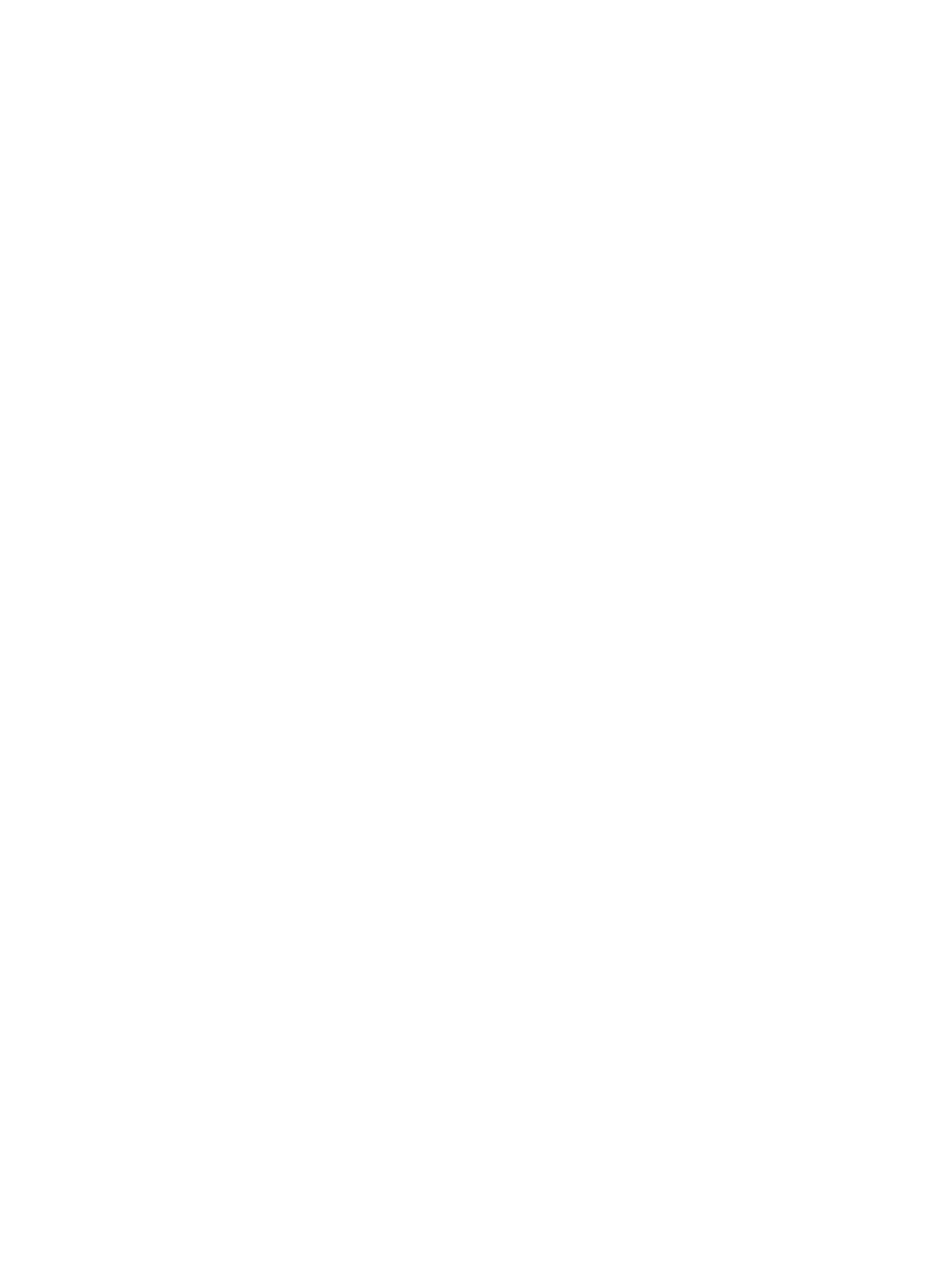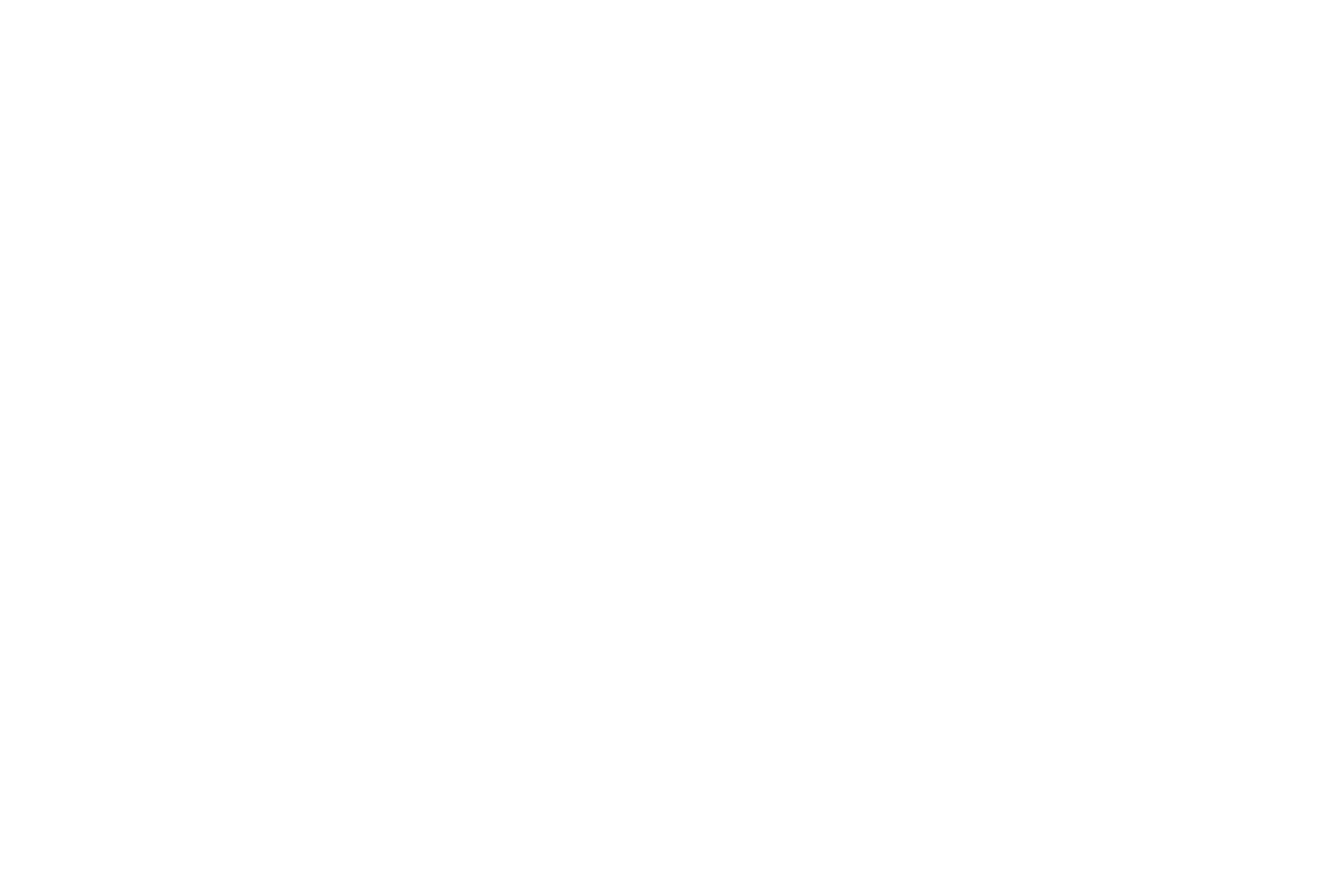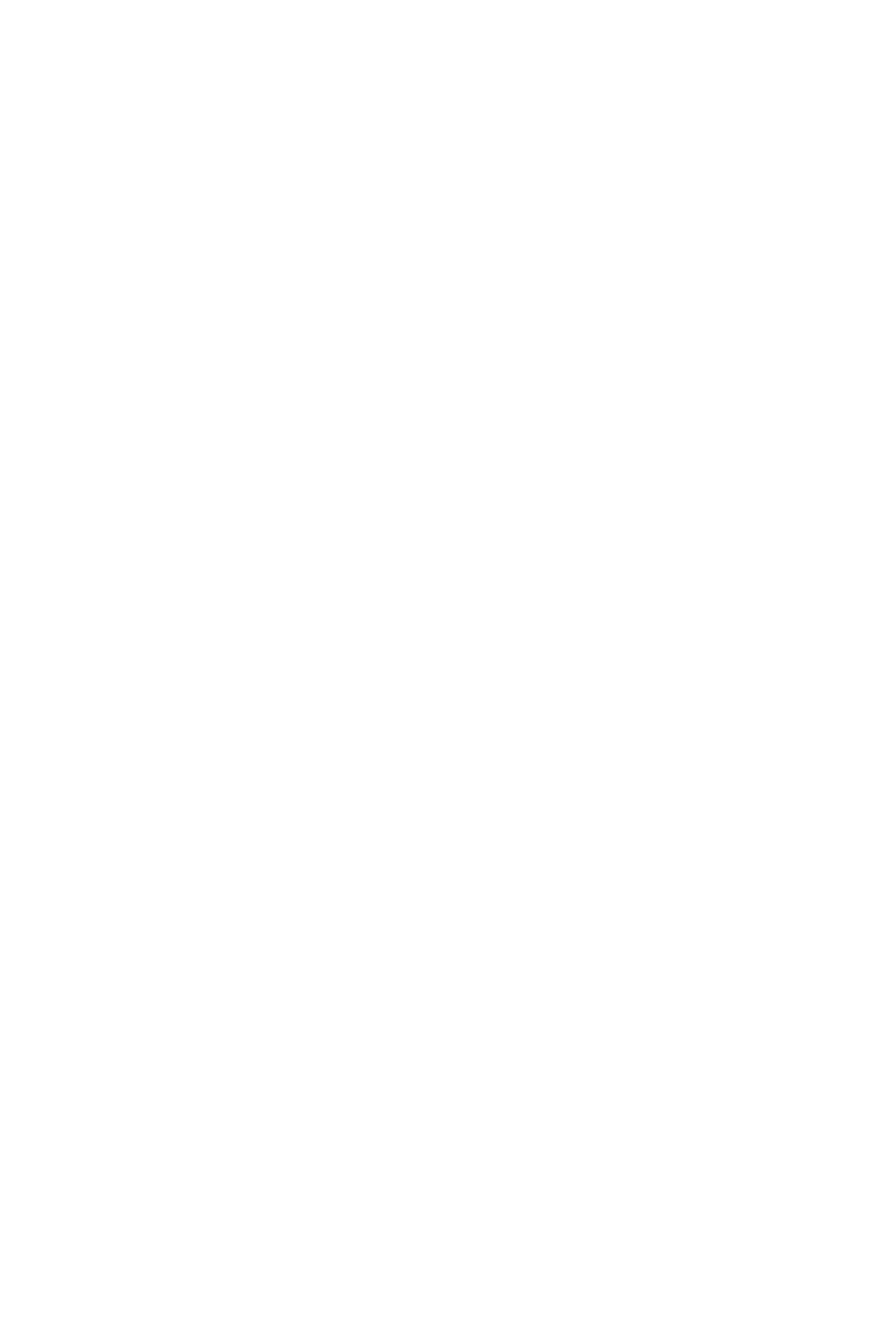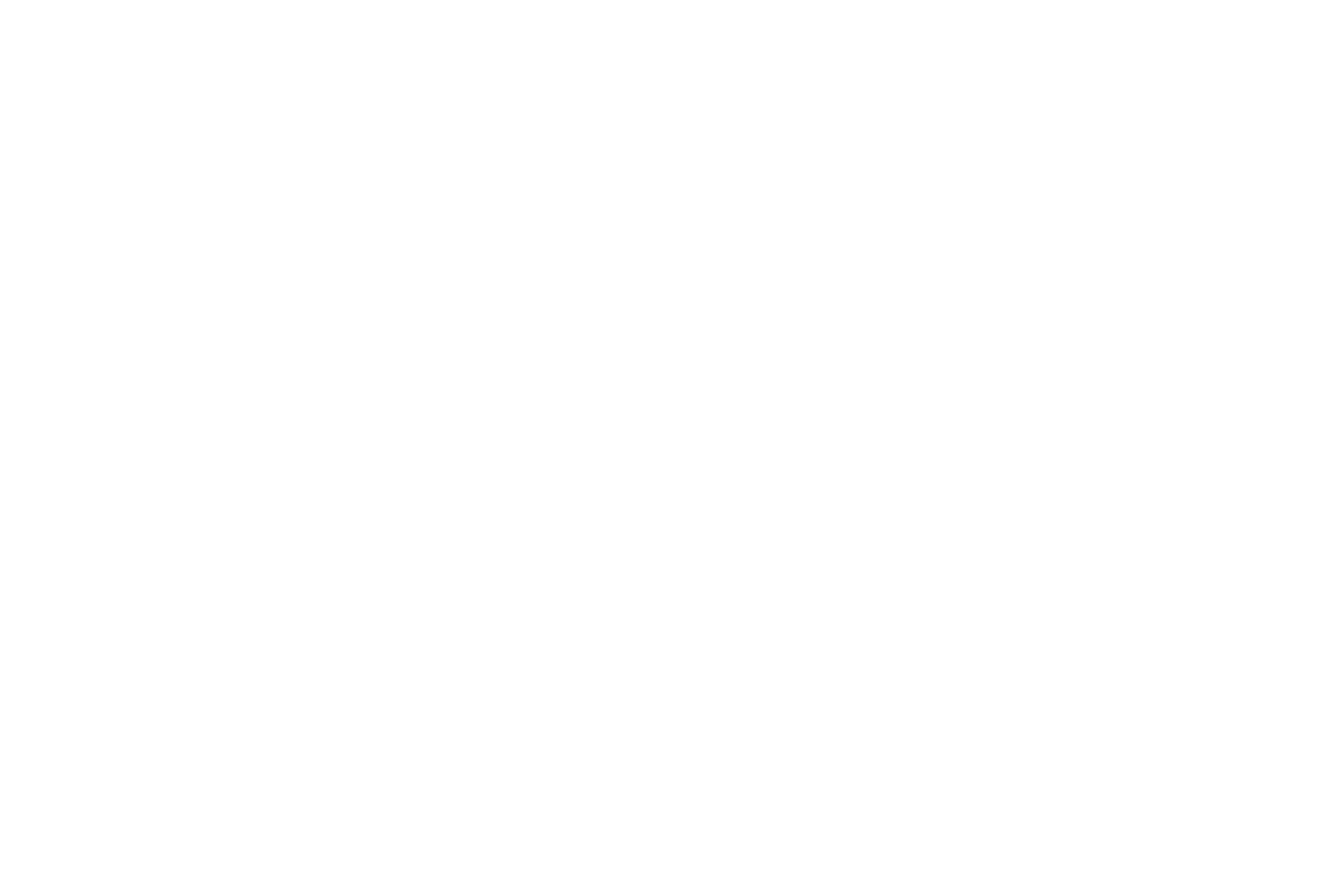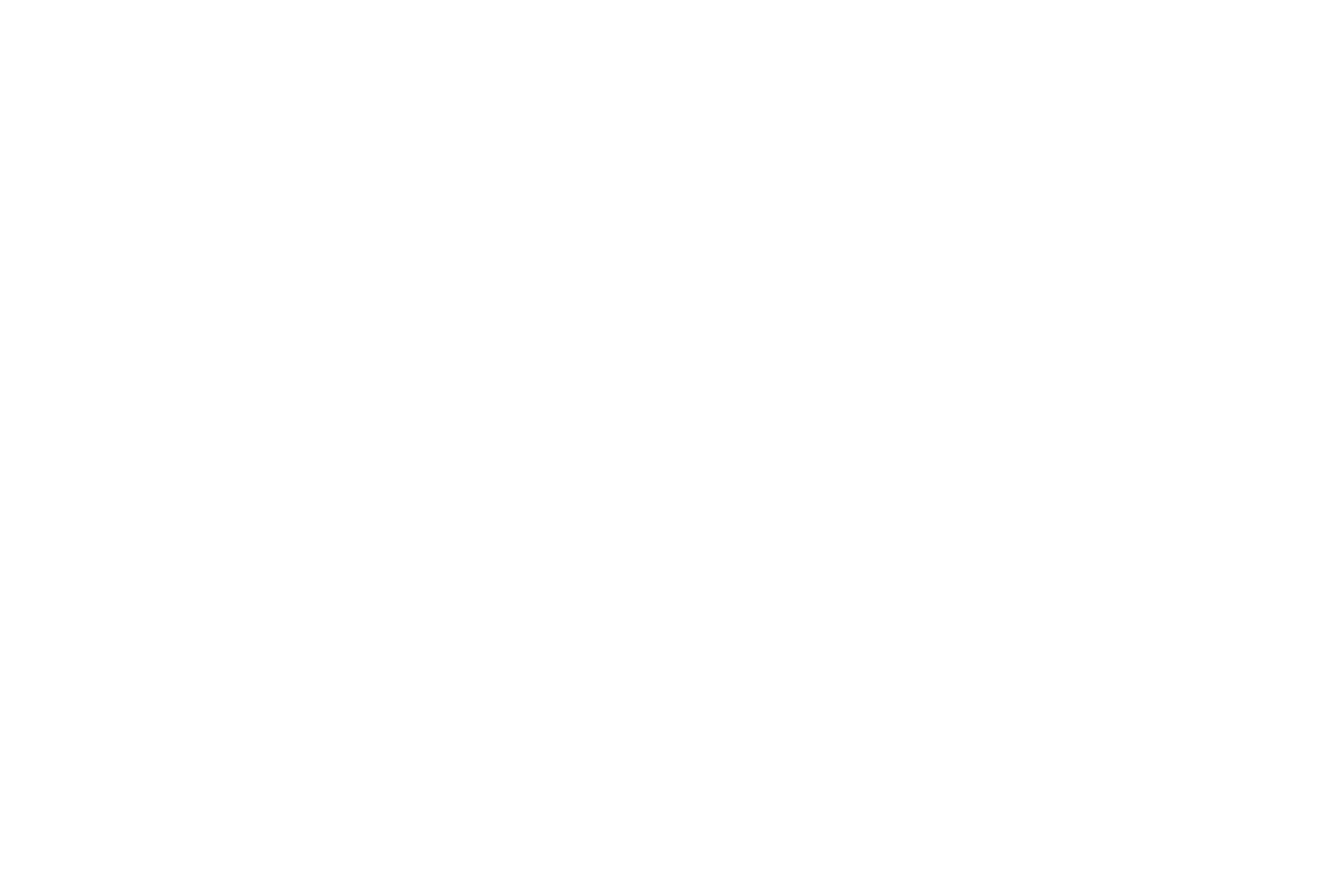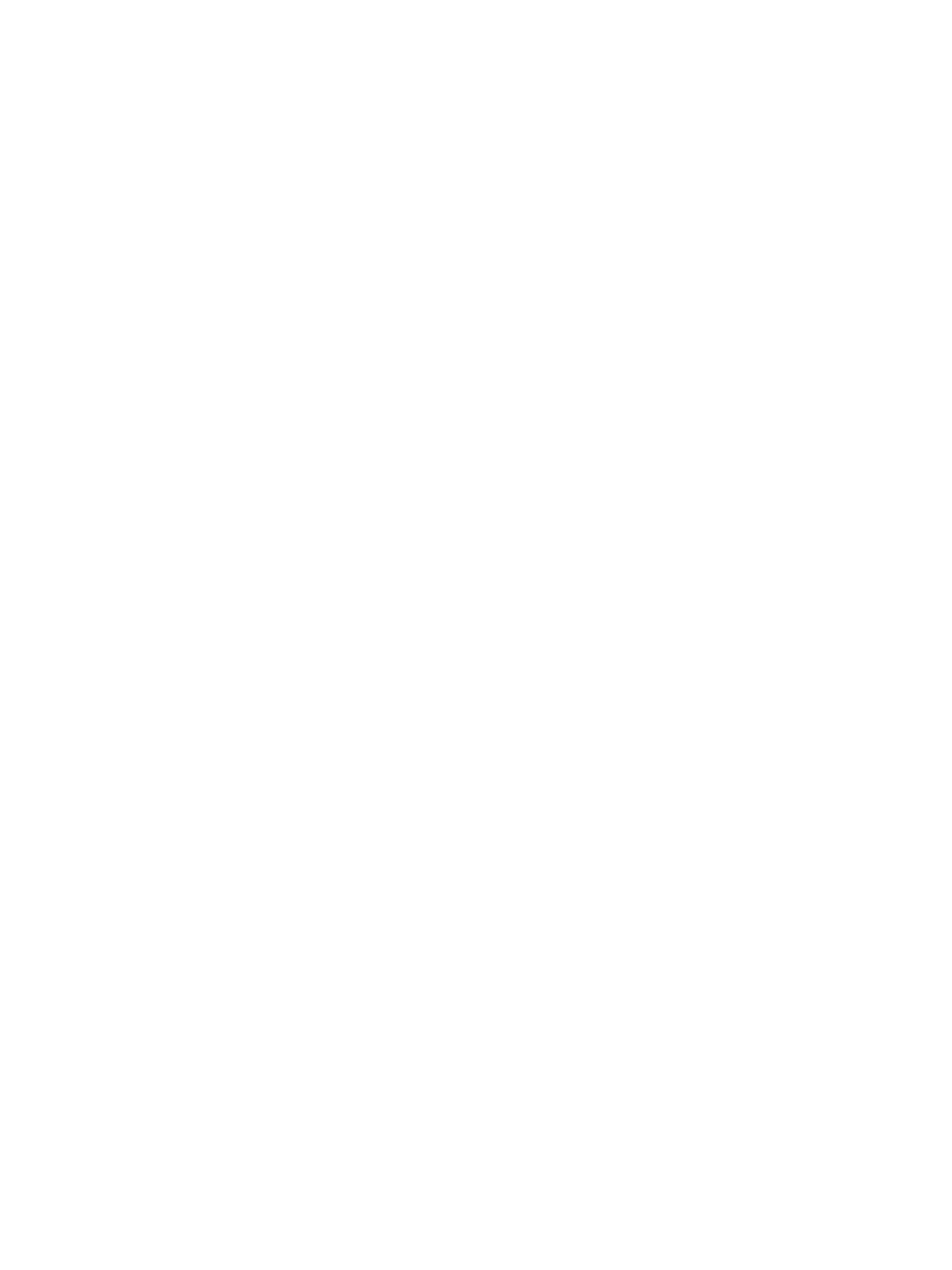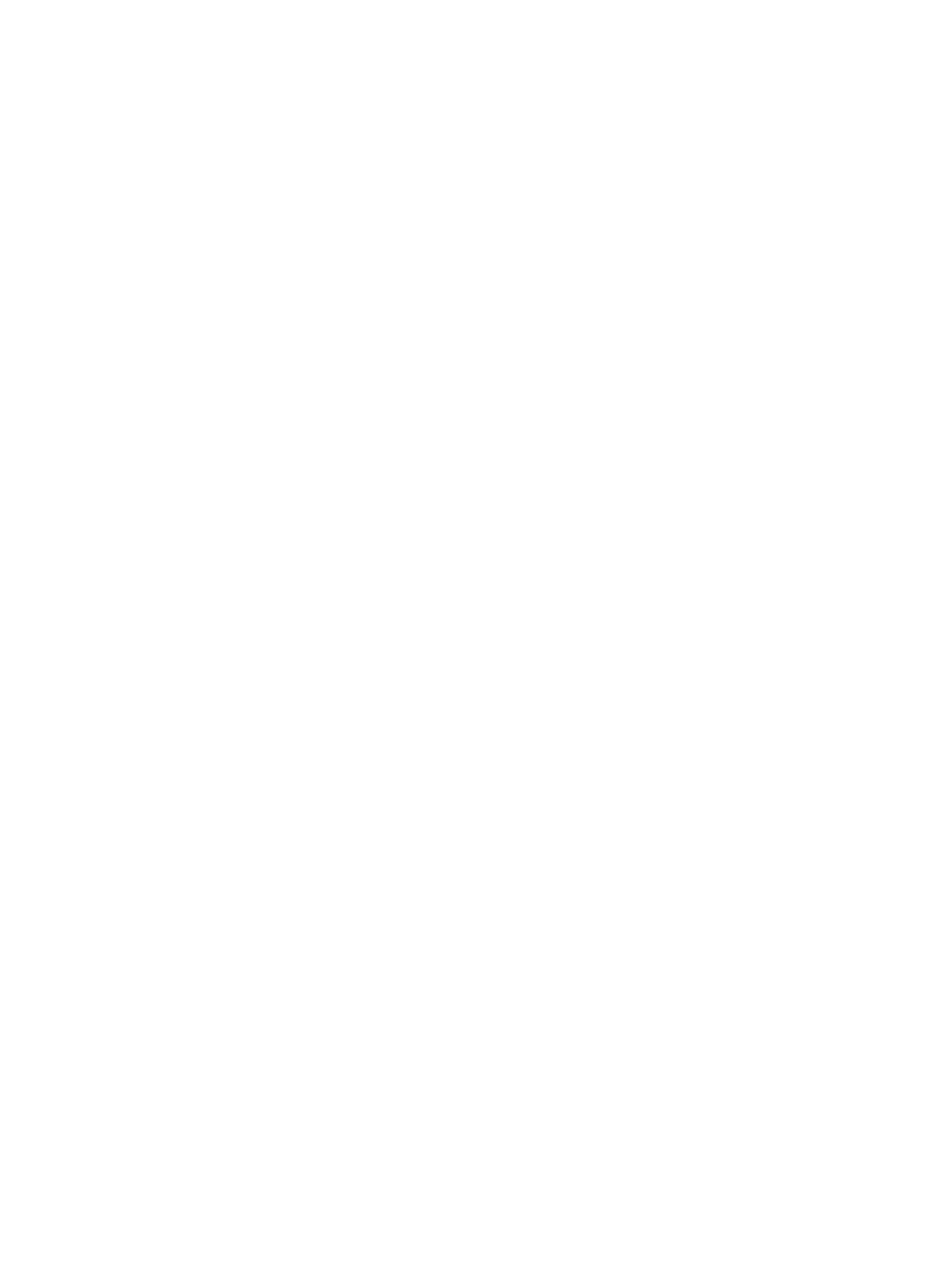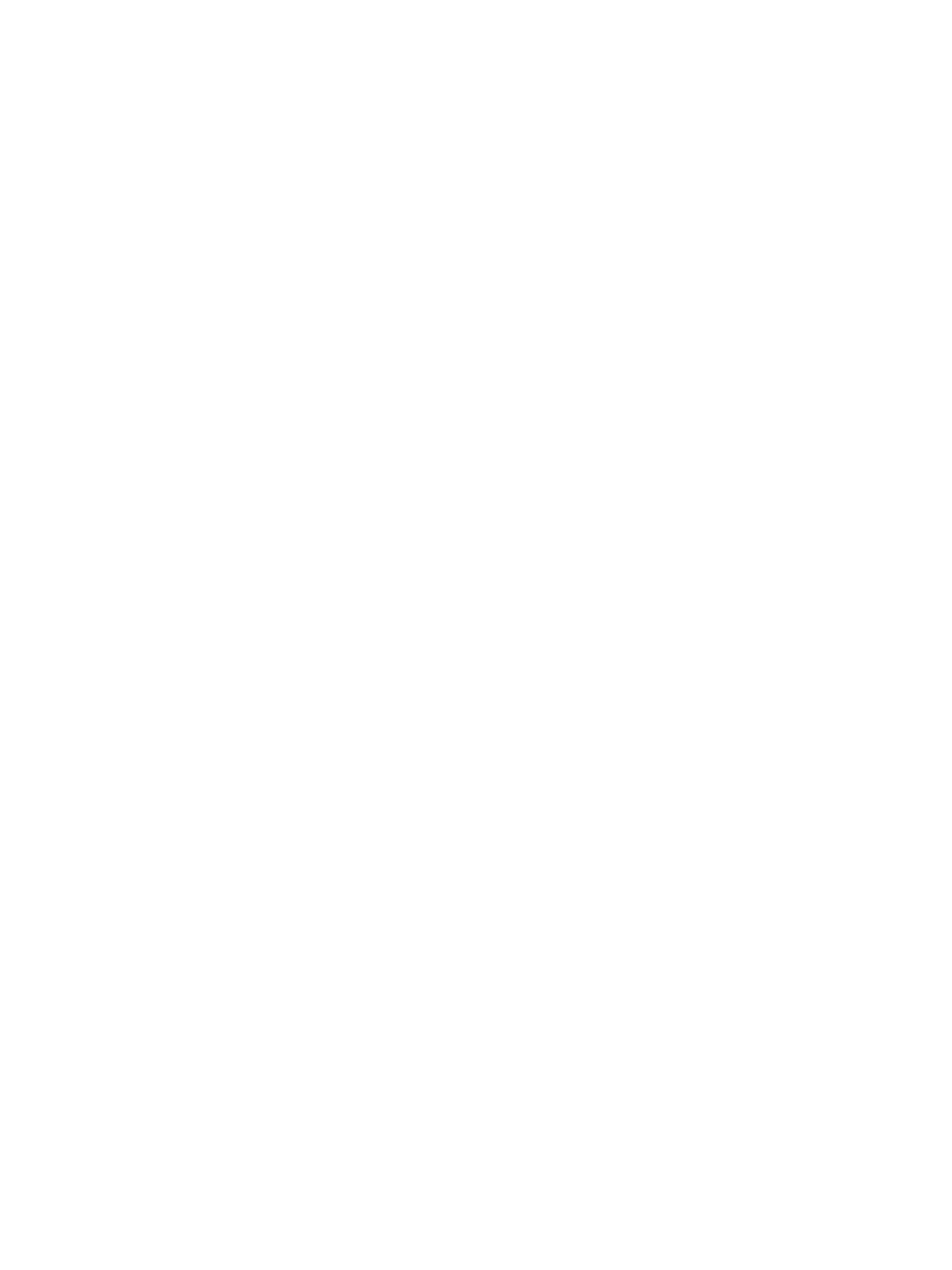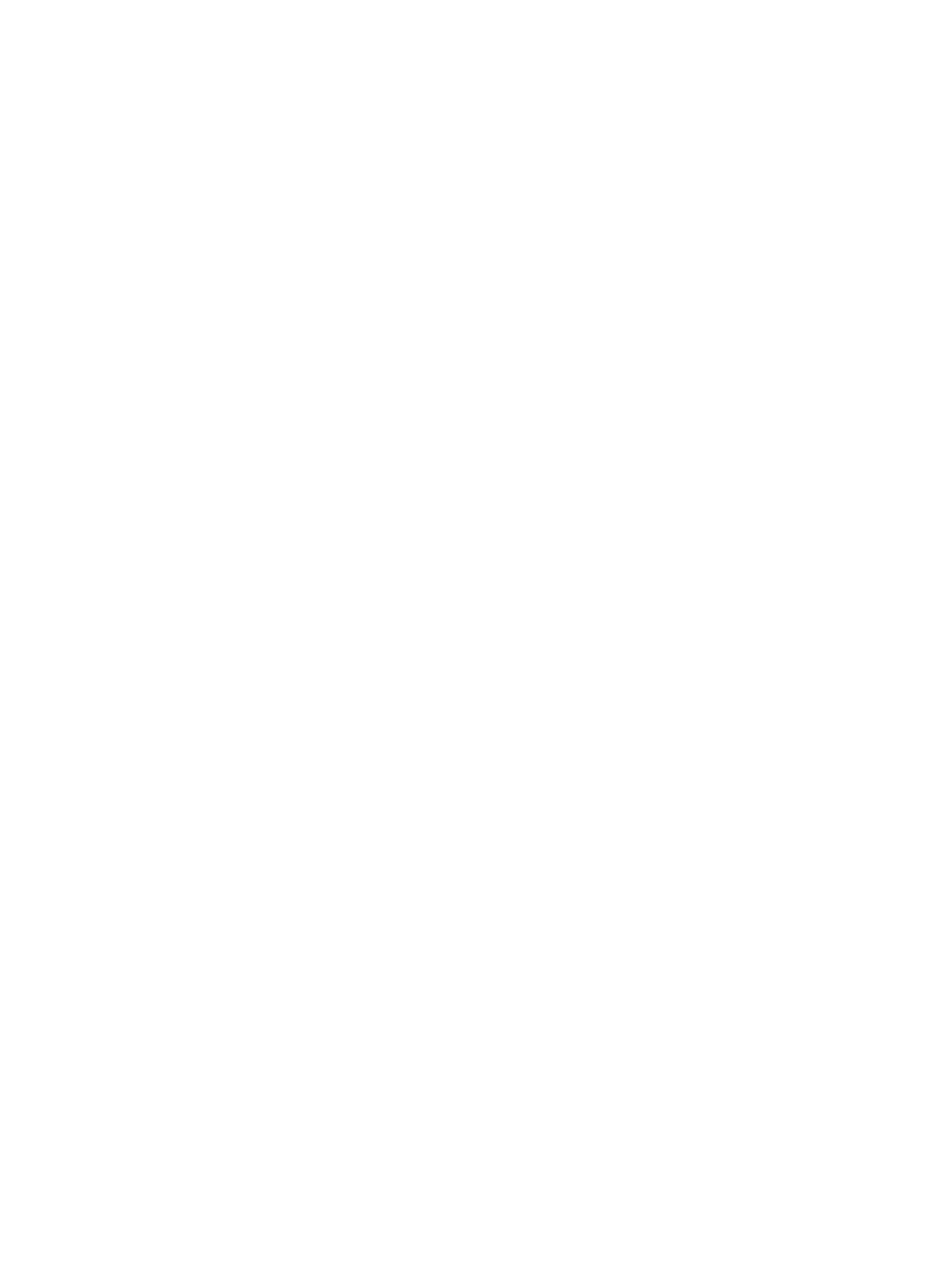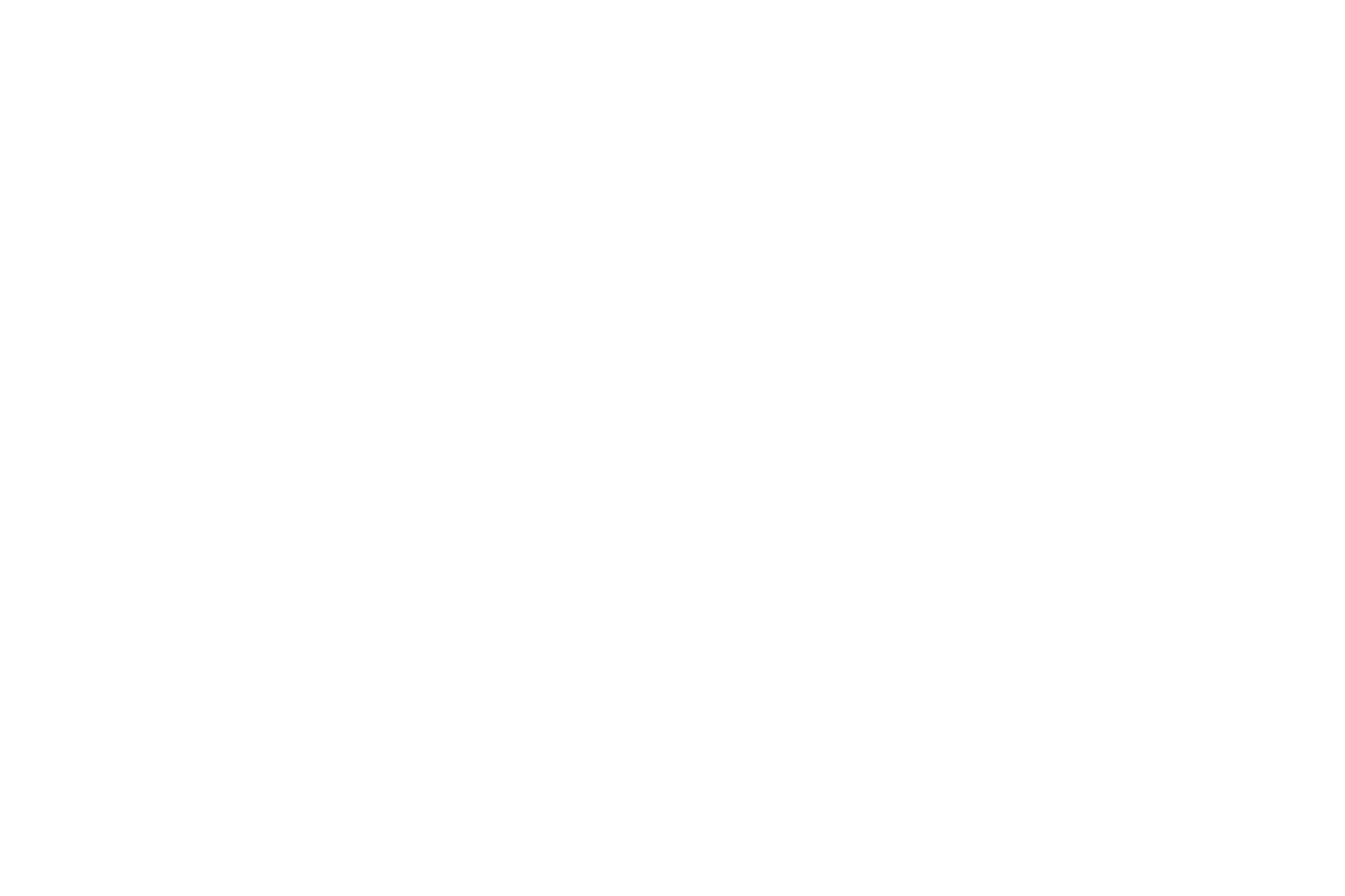Персональная выставка Димы Королева / самуилла маршака
МАЙ
1.05 — 22.07.2023
МАЙ
Часть I
Дима Королев (самуилл маршак) появился на художественной сцене Петербурга неожиданно и как будто из ниоткуда. Его путь к живописи и становление как художника сопряжены с неожиданными поворотами в судьбе, отнюдь не обещающими поступательное движение и органичное вхождение в профессию. Выпускник Академии художеств в Петербурге, он совершенно не академический живописец, скорее напротив – полная ему противоположность. Это тем более удивительно с учетом того, как поглощает Академия любой талант, оставляя видимое на всю жизнь несмываемое родовое пятно. Только немногим единицам удалось выпутаться из этой поглощающей системы, конвертировав полученные навыки в свое искусство. Возможно, отсутствие начального этапа в образовании и довольно поздний, но совершенно осознанный выбор поступления на живопись предопределили его отсроченное художественное взросление. При том что речь в данном случае идет скорее не о ремесле, о пресловутой легкости в освоении навыков академического рисунка и живописи, которые гораздо легче давались его сокурсникам – недавним схшатикам (выпускники СХШ), среди которых он чувствовал себя белой вороной.
Что касается внутренних живописных задач, к которым маршак стремился, – они как раз представлялись вполне уже осознанными. Знакомство с живописью Натальи Гончаровой, Роберта Фалька, Михаила Ларионова в Русском музее, так же, как и Анри Матисса в Эрмитаже, стали для него в свое время настоящим открытием, сформировали и предопределили круг художественных предпочтений. Очевидно, что именно они и стали для художника спасительным противоядием и опорой в формировании собственного живописного языка. Выход к себе самому был возвращением к спрятанным детским страхам и тому смутному времени немоты, косноязычия, невозможности что-то сформулировать, произошедшим как раз в момент освоения ремесла. То есть художник сознательно шел к тому языку, который был когда-то спасительным и интуитивным выбором – той собственной линией живописного мастерства, где наивность, сила, дерзость и неслыханная простота – выстраданные, выношенные, сознательно культивируемые качества художественной формы.
Глядя на фигуру художника, вспоминаешь слова Маринетти во время его гастролей в Россию, сказанные о Ларионове: он напоминает ему большого белого медведя, держащего в лапах незабудку. Дима производит впечатление большого добродушного увальня. Сказанное, понятно, относится и к характеру живописи, в которой тоже есть размашистость, сила, но без агрессии, ярости и конвульсий, – это спокойная и сдержанная, как бы немного дремлющая мощь с нет-нет, но ощущаемым рокотом и прорывающимся клокотаньем. Но здесь же – легкость и трепет, колыханье, едва трогающей холст, подвижной кисти, недосказанные, неотрисованные формы, убегающие очертания. Сила и беззащитность.
«Инфантильный примитив» – так назвал Илья Зданевич живопись Ларионова неопримитивистского периода. Как известно, выход к радикальному примитиву для Ларионова был манифестацией нового пути в искусстве и носил кратковременный характер. От импрессионизма и постимпрессионизма он с легкостью перешел на язык наивного искусства, без стилизации и заигрывания поймал ту чистую интонацию, которая так привлекала его у провинциальных вывесочников-маляров, самоучек, художников из народа, детей. Спустя сто лет кто только не вдохновлялся этим, заново открывая нескончаемый потенциал экспрессивного наивного творчества, – от художников арефьевского круга и Боба Кошелохова до Тимура Новикова, Олега Котельникова, Ивана Сотникова и «Митьков».
Дима тоже включился в эту традицию, но сделал это совершенно по-своему. Отчасти здесь сказался его бэкграунд и экзистенциальные вещи, связанные с внутренней необходимостью выстраивания своей собственной линии творчества. У него совершенно отсутствует жанр, он редко пишет людей, мир его образов не связан с какой-то сюжетной жизненной коллизией, скорее с некими мотивами, движениями свободного живописного пространства, прочувствованного как самостоятельная стихия, а не абстрактный фон. Из подвижной шевелящейся массы, вороха мазков выпрастывается предметный мотив, обозначая молчаливую драму бытия вещей в мире. Это живопись, без фиоритур и броской маэстрии сделанности, не расцвеченная валерами красочных тонов, но в ней есть непреложная сила и бедность ар-брюта с его царапающим, цепляющим, ранящим восприятием жизни.
На холсте, созданном после февраля 2022 года («Шум»), изображен человек, закрывающий свою голову руками от внешнего мира. Месиво плотных яростных мазков, рваная фактура живописи, темный, сгущенный колорит с прорывающимися вкраплениями открытого цвета – все работает здесь для создания пронзительно-трагического образа человека, лицо которого превращено в маску из сгустков запекшейся крови. Мунковский «Крик», бэконовский «Папа Иннокентий Х» художник перефразировал в своем полотне, максимально приблизив к зрителю голову с приставленными к ней ладонями – то ли от нечеловеческого ужаса, то ли невыносимой боли. Жест воздетых к голове рук отсылает и к иконографии Богоматери Оранты, только не защитительный и спасающий, а беспомощный и защищающийся – жест отчаяния и мольбы. Комок шевелящейся уязвленной плоти, сбитый рисунок, напряжение срывающейся фактуры – живопись открыто экспрессионистична, она отличается от того, что ранее создавал художник, и встраивается в интернациональную линию искусства, работающего на протяжении всего ХХ века с темой страдания и боли.
Шум времени детонирует взрывной волной в этой живописи, сминая, деформируя все на свое пути. В этом же ключе написан «Дикарь», попадающий мотивом и стилистикой в один из главных живописных мейнстримов модернистской живописи – экспрессионизм – от «диких» к «новым диким»; вот только дикарь ли это? В нем есть что-то запредельно человеческое, страшное, разрушающее – в запавших полустертых глазах, в оскале рта, в огромном воронкообразном ухе. Среди разметанных по холсту мазков, вспахивающих сбитое как от разрыва снарядов поле живописи, выпрастывается «осколком» грубая солдатская ложка – деталь, придающая ползущему раскоряченному существу смысл: он становится страшен и жалок одновременно. Этой же нечеловеческой силы и ярости преисполнен разлапистый «дикарь», одним взмахом пронзающий пилой с огромными острыми зубцами грубо сколоченный табурет. Распластывая фигуру, размазживая стопы и кисти рук, художник предельно деформирует плоть так же, как рвется пилой материя предмета в исступленном накале агрессивного натиска.
Даже во внешне спокойных и умиротворенных вещах – плывущих в воде разноцветных рыбках, гуляющих по двору курицах или же каркасе возводимой теплицы на садовом участке – есть неутоленная тревога, беспокойство и всепроникающий гул распадающегося на глазах мира. Нонфинитность, когда кисть только схватывает очертания предмета, – прием, позволяющий поймать вибрирующий шевелящийся хаос в лучистом потоке его средостения. В струении живописной плоти нет тяжести – она подвижна и пронизана светом. Легко и трепетно ткется предметный мир в своем становящемся играющем качестве, необремененный вещностью предметного начала. Золотистая булка играет ворохом светоносных мазков в потоке синей ткани, выдавая свою лучистскую природу.
Так же органичен живописной фактуре включаемый в живопись текст. Это могут быть отдельные слова или фразы, соотносимые, как правило, не напрямую с изображенным на холсте, но скорее в режиме отстранения или же игры, напоминающей приемы работы с текстом и изображением у Кабакова и Пивоварова. В то же время характер живописи таков, что соотносит текст скорее не со стилистикой иллюстрации, где подпись выполнена ровно и аккуратно, а с граффити или же ученической тетрадкой – чем-то живым, непричесанным, корявым. Таковы слова сердечной молитвы, написанные светло-голубой краской прямо по белому полю холста «Господи спаси меня грешного сохрани помоги сердце тани дороже сердце юры дороже». Чистое полотно оставлено фоном для легких акварельных букв, отсылающих к рукотворной книге Ольги Розановой «Тэ Ли Лэ», где впервые художница использовала цветопись в отношении поэтического текста. Граффити, размещенные на белом фоне, кажутся неловко выкроенным транспарантом, вынесенным в пространство серенького светлого неба с изображенным внизу золотым солнцем с исходящими лучами. Свет соцветиями перистых лучей пронизывает все полотно, из него выпрастывается «облако» слов, угадывается птица, и солнце превращается в золотое яйцо. Пение птицы – стих молитвы, сочиненный самим художником, выступающим здесь поэтом. В протяженной амплитуде звучания – от крика и гула до птичьего пения – угадывается диапазон возможностей этой живописи, в которой чутко уловлено наше время – катастрофы и надежды.
Часть II
Дима Королев, он же самуилл маршак, хотя и говорит, что выбрал этот псевдоним случайно, дадаистским методом тыка, всё же оказался здесь безупречно точен. И подтверждение тому – его полотна, в которых преобладает «детский дискурс». Он проявляется не столько в считываемой инфантильности языка, сколько в той оптике взгляда на мир, которую утвердили в детской литературе Маршак и привечаемые им обэриуты, где ребенок способен увидеть и пережить то, что уже недоступно взрослому, утратившему эти качества. В случае Королева (маршака) эта оптика заключается, в частности, в избирательности выбора объектов изображения, статус которых может быть случаен, маргинален или же, наоборот, важен, но не в своем основном качестве. Сбивчивость, даже как будто беспомощность, неловкость, с которой даны предметы, сочетаются с ясностью и конкретностью в изображении. Фактурная взъерошенность с гладкописью. От подвижного, барахтающегося характера формы совершается неожиданный переход к формам предельно минималистичным, лаконичным, знаковым. Причем это может происходить в пределах одного холста, создавая смешанный эффект – недоговоренности и косноязычия, пугающей прямолинейности и однозначности высказывания. Включенные в живопись слова привносят дополнительный момент ускользания от определенности прочтения. Пространство делится на две части, знаменуя условный характер фона, в котором соотносятся, как на иконе, «позем» и «небо», придавая иной, внеположный реальности статус изображенным объектам.
Крупные буквы «Живые» написаны прямо над домом без окон с заколоченной дверью так, что слово, кажется, не нанесено поверх изображения, а является частью почерневшей от времени избы. Масштаб надписи делает дом игрушкой, частью игры или же неведомого обряда, у которого есть продолжение. Этот холст встраивается в контекст других работ, решенных крайне аскетично и по цвету, и по форме. Два доминирующих цвета в палитре – красный, напоминающий холодный сурик, и темно-зеленый – взяты из арсенала уже позабытой советской казенной краски. Но именно в этом глухом, непроницаемом пространстве смирения и тоски неожиданно проявляются образы – как некие знамения из другого мира. Неловкий уголок низкого дощатого заборчика где-то на периферии зрения становится полем для сверхъестественного явления небесной силы, прилетевшей сюда огненным крылатым глазом-ядром из другого, иконного пространства. К нему нацелен палочкой мага тонкий лучик с сияющими звездами по сторонам.
Элементарная геометрия форм и размещение фигур в нейтральном безвидном пространстве – черном, белом, зеленом – выдают иконное или же супрематическое происхождение этого языка, так же, впрочем, как и детское, наивное – всё, что говорит о началах бытия, первичных структурах и чуде. «Аорист» – так называется холст с огненным шестикрылым серафимом, явленным на стыке черной и белой плоскостей неба, распростертого над желтой, голубой и зеленой полосами земли. Неожиданное замыкание пространства, короткая вспышка, остановка во времени переключают наше восприятие так же, как и вспыхнувшее надеждой над вымороченным домом слово «живые».
Вторжение иного плана бытия в здешний непритязательный мир сопряжено и со смертью, чье присутствие не обнаруживает себя явно. «СЕРЁЖА» – аккуратно и неловко написано в левом нижнем углу холста с изображенным на зеленом бескрайнем поле шагающим солдатиком в защитной форме – родным братом ларионовских солдат из его серии 1912 года. За ним черная вспаханная взрывом земля с ободранным стволом дерева, впереди узкая голубая змейка ручья, бегущего к горизонту, и смазанное красное пятно над ним как досадная помеха в безмятежном пейзаже. Парой к этой работе служит холст с багрово-красным кумачом гроба, зловещей махиной, вторгающейся на черную землю. Перевернутая оптика обнаруживает здесь свою неотвратимую логику войны: красное облачко оборачивается кровавой солдатской домовиной.
В эту же линию комбинирования простых геометрических форм встраиваются скульптуры художника – крепко сбитые друг к другу плашки-дощечки, ровно окрашенные в монотонные цвета, вторящие палитре холстов, – купут-мортум и зеленый кобальт. В своей основе это беспредметные формы, напоминающие конструктор, но не фирменный, модульный, а доморощенный, штучный, сработанный на совесть. Ладно подогнанные «деревяшки» отсылают и к кустарному промыслу, и к изделиям предприятий, выпускающих не основную продукцию, а в рамках конверсии. Напольная игра включает в себя вещи, не связанные напрямую с некими реальными прототипами, – это русские эйдосы форм, безымянные архитектоны, могущие потенциально воплотиться во что-то конкретное. И ведь воплощаются! Появляются дома, ветряки, елки, тяжелые машины с предельно лаконичными, сведенными до эмблемы фигуры. Впрочем, художник не ограничивает себя одной типологией форм, в его арсенале есть и скульптуры с яркой раскраской – они как будто бы из другого конструктора, веселого и жизнерадостного. Находясь на периферии с живописью, с холстами «деревяшки» отчетливее проясняет ее характер, интонацию. Любая его вещь – это монологическое высказывание со своей пластической задачей, выношенная лаконичная форма и концептуальный смысл, пусть и неочевидный, в обезоруживающей интонации ар-брюта.
Куратор – Глеб Ершов
экспозиция
открытие выставки