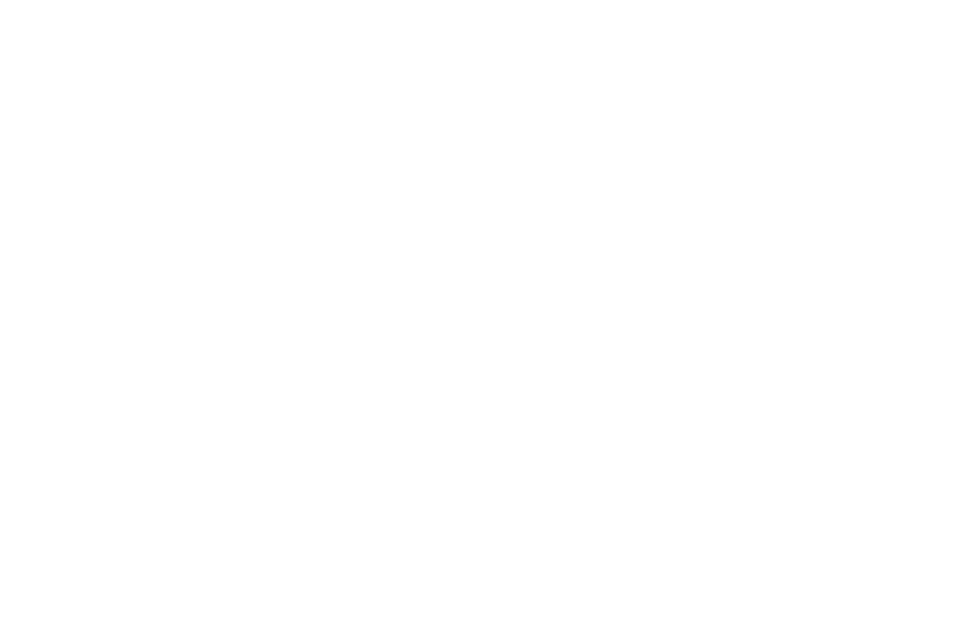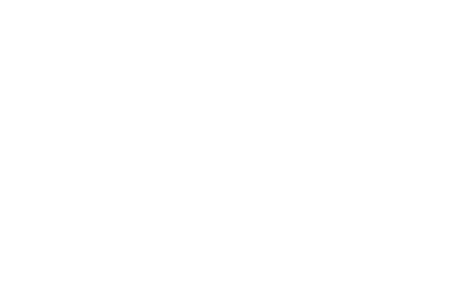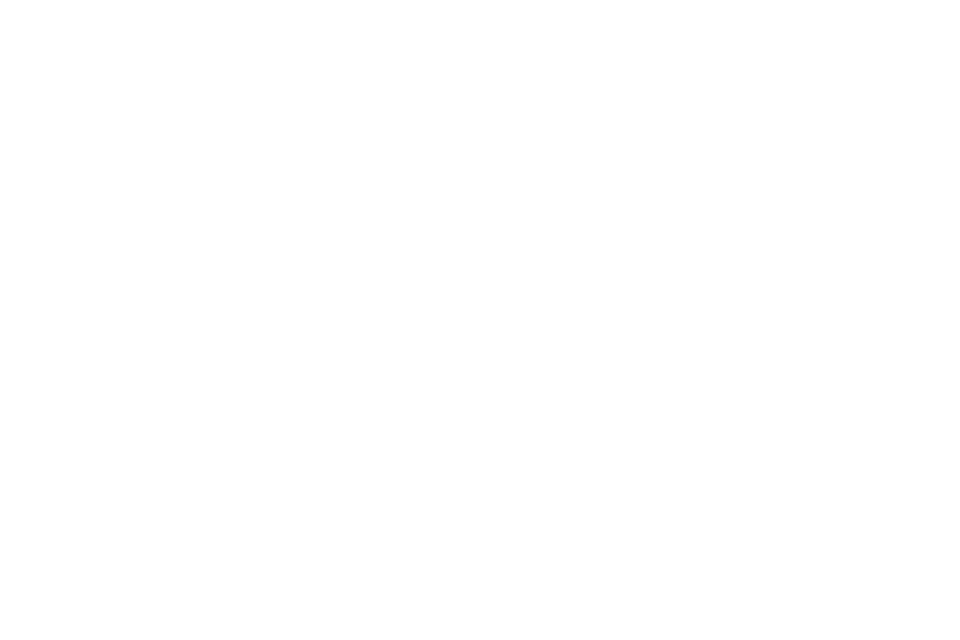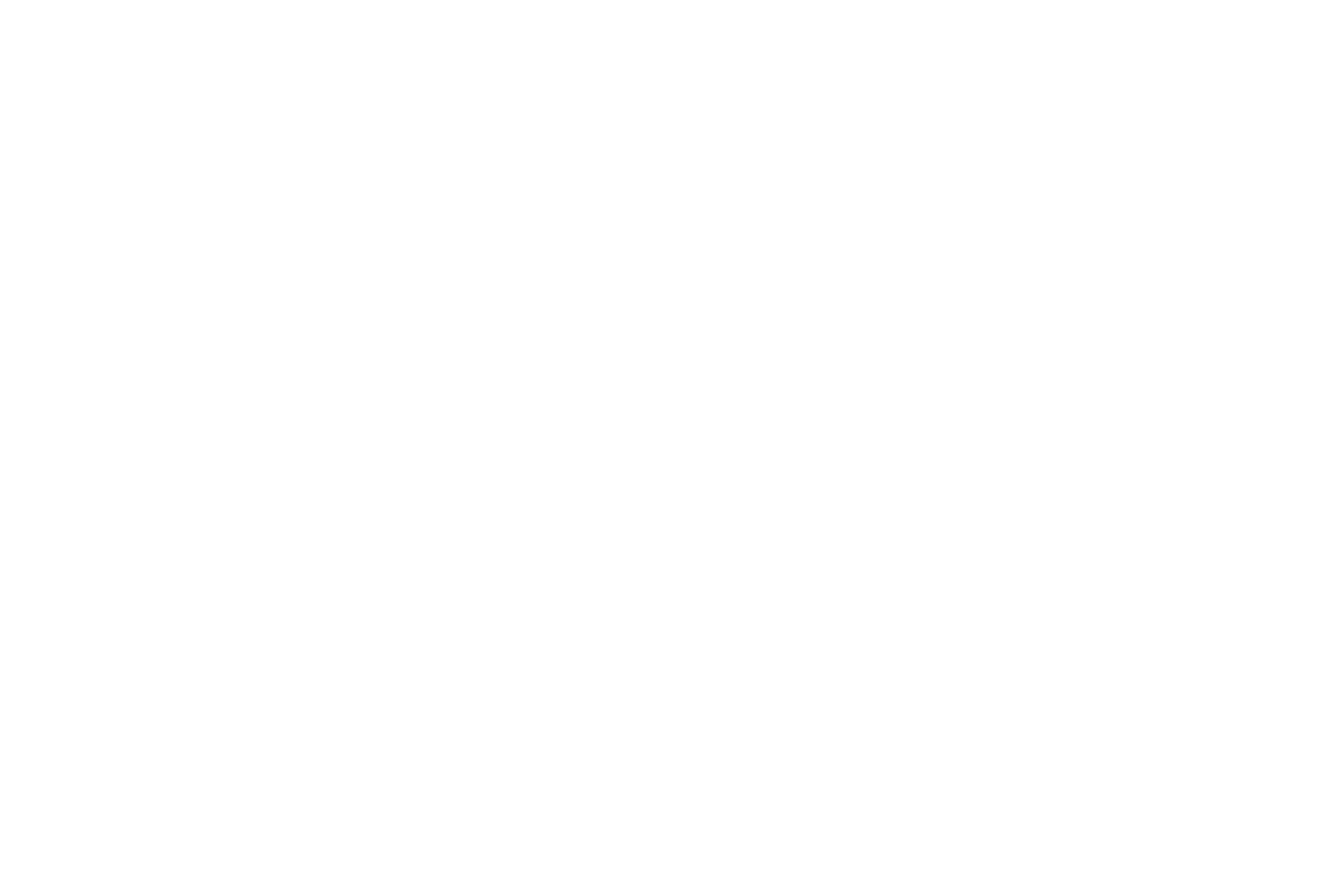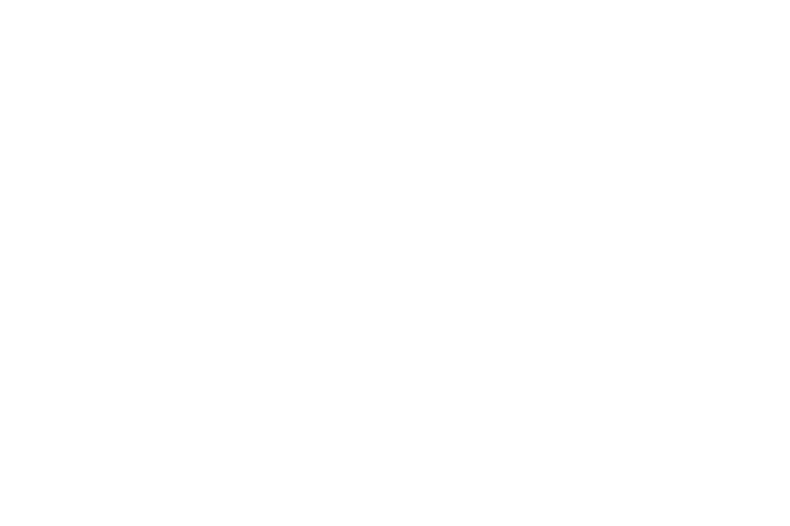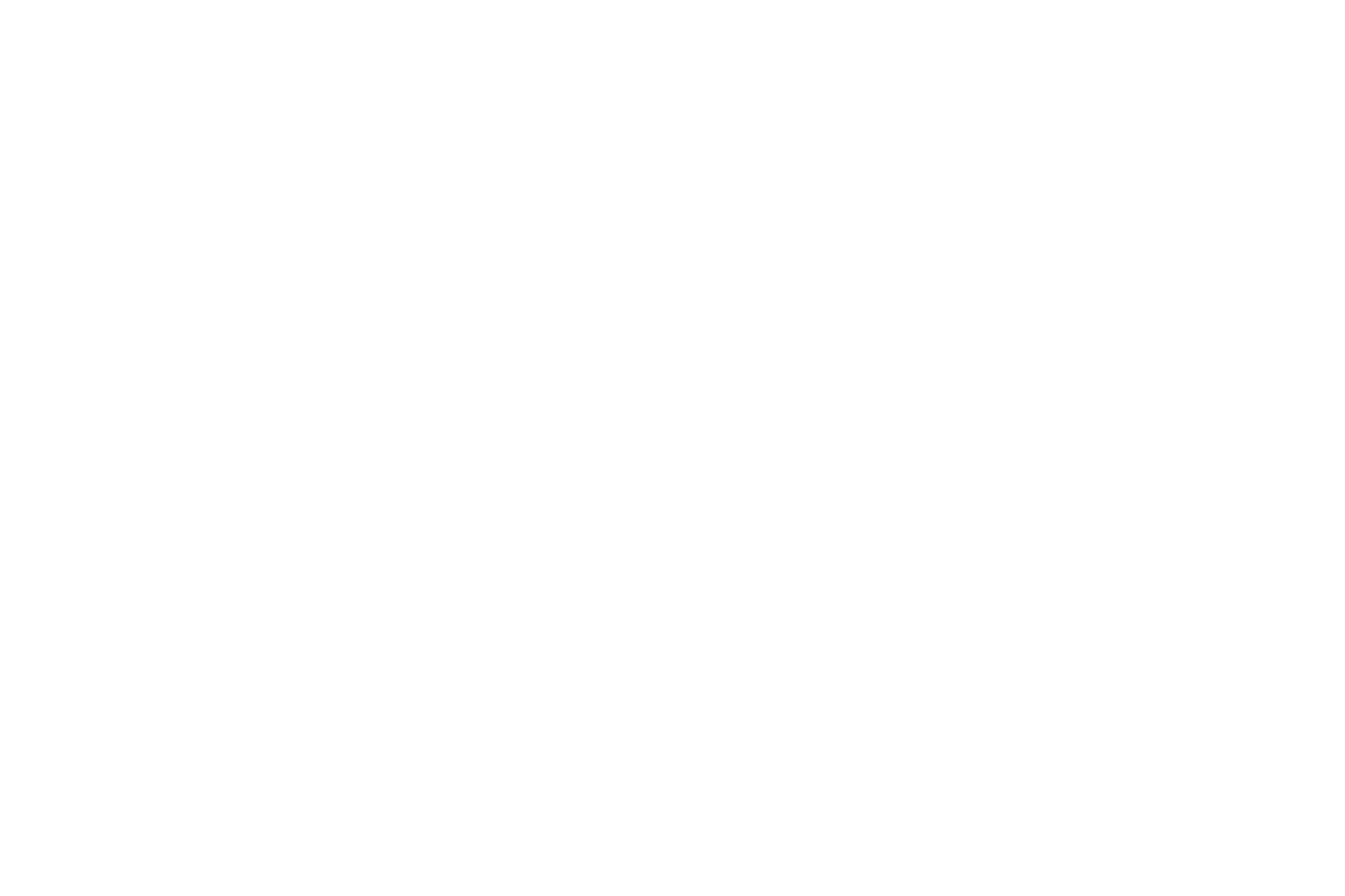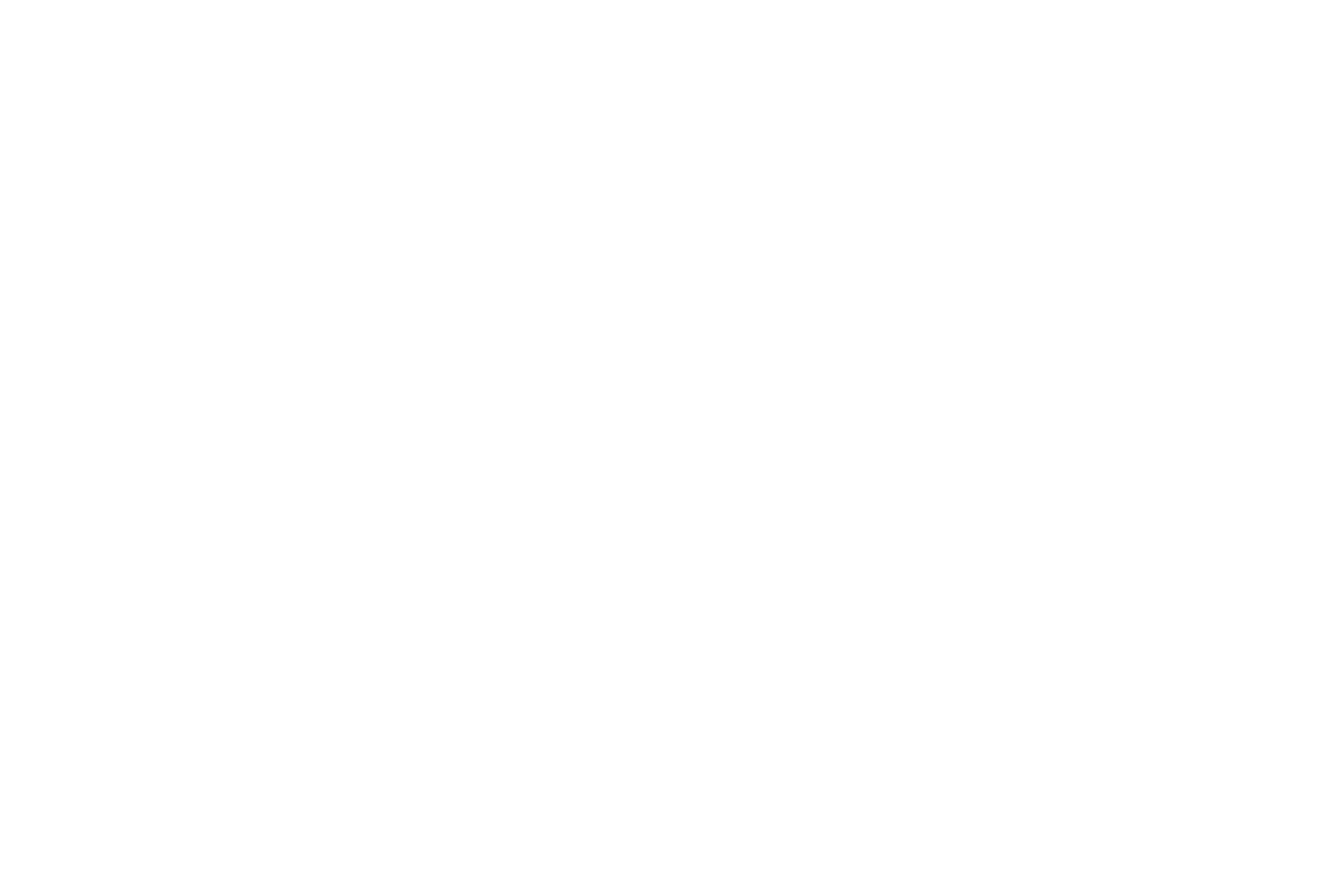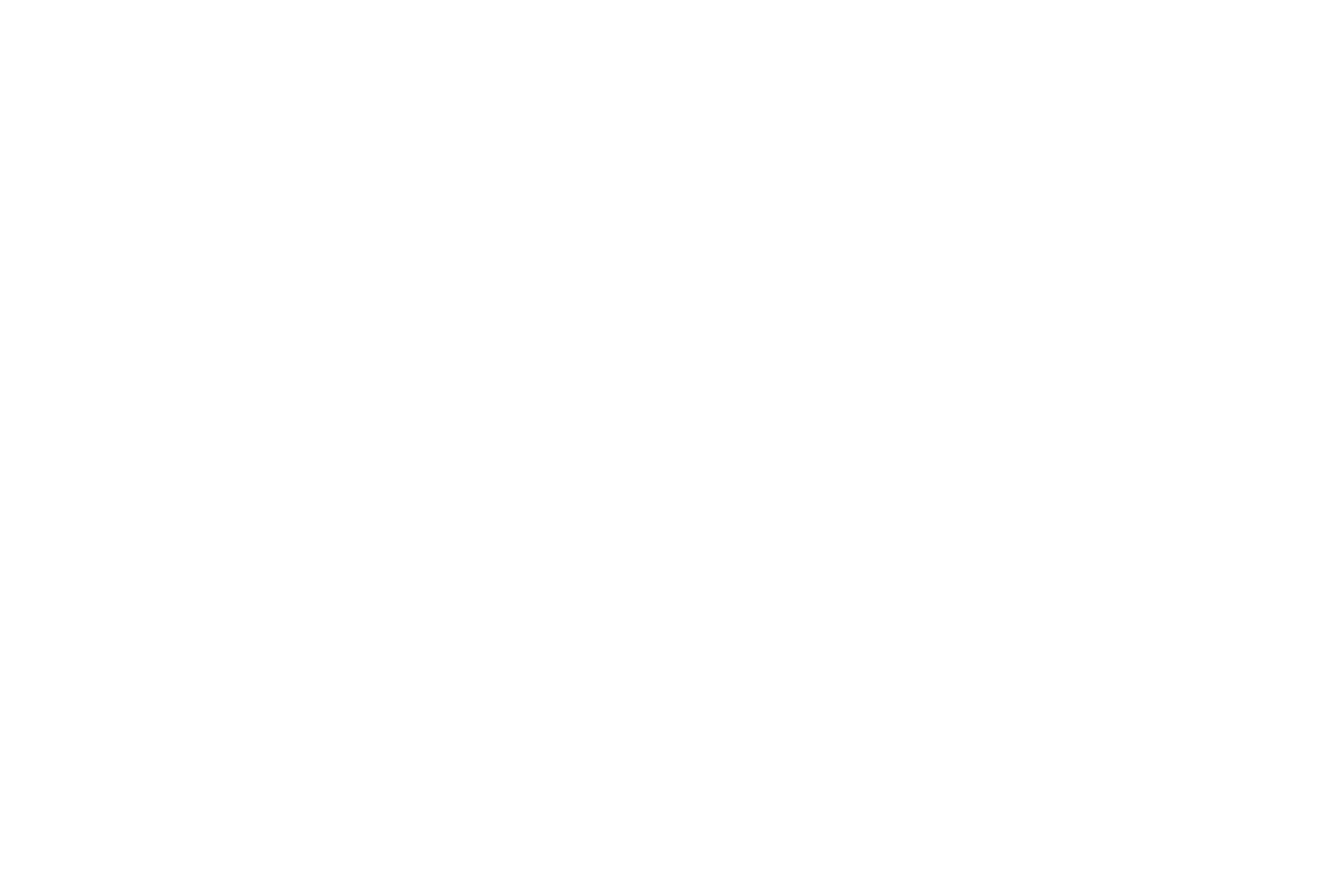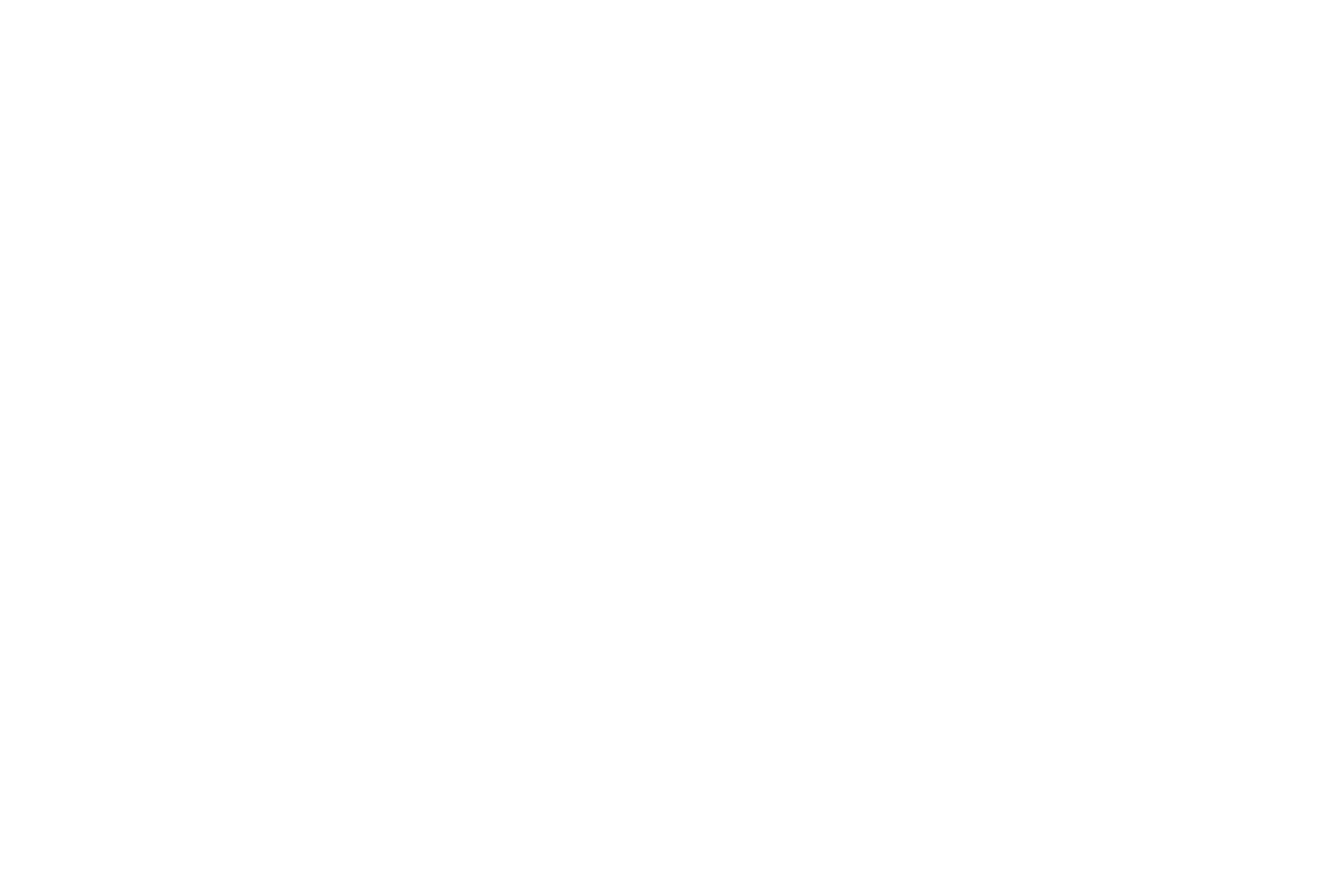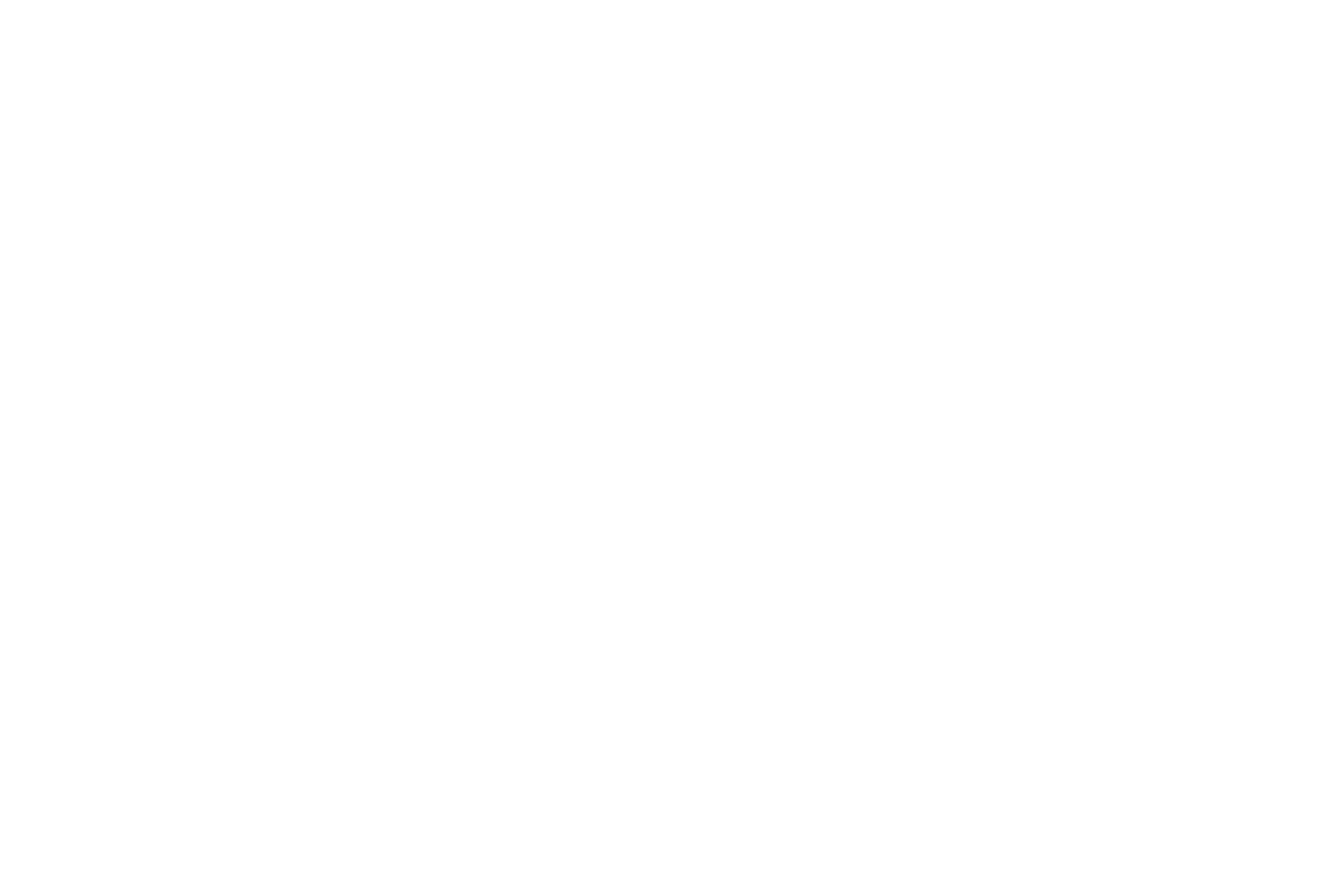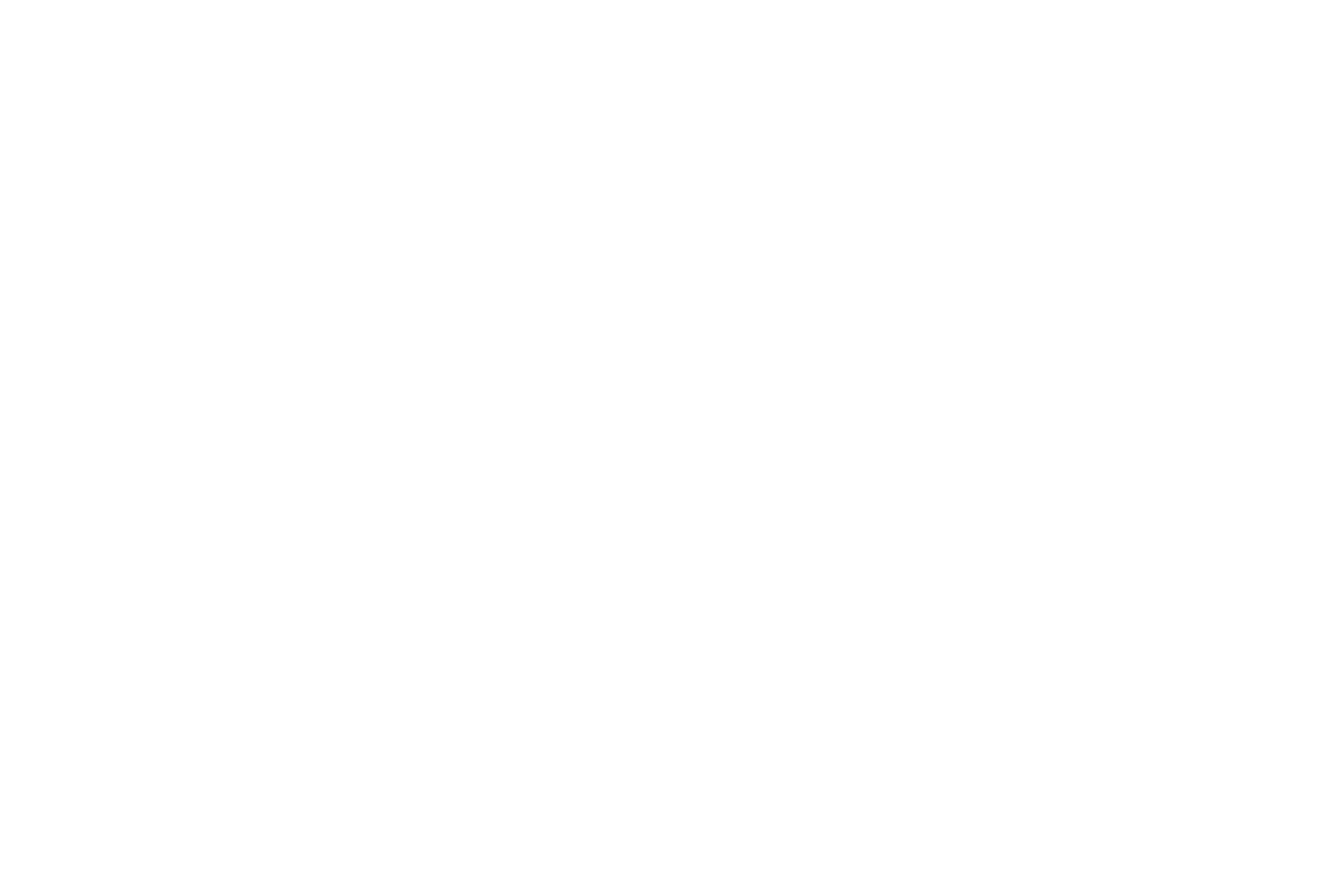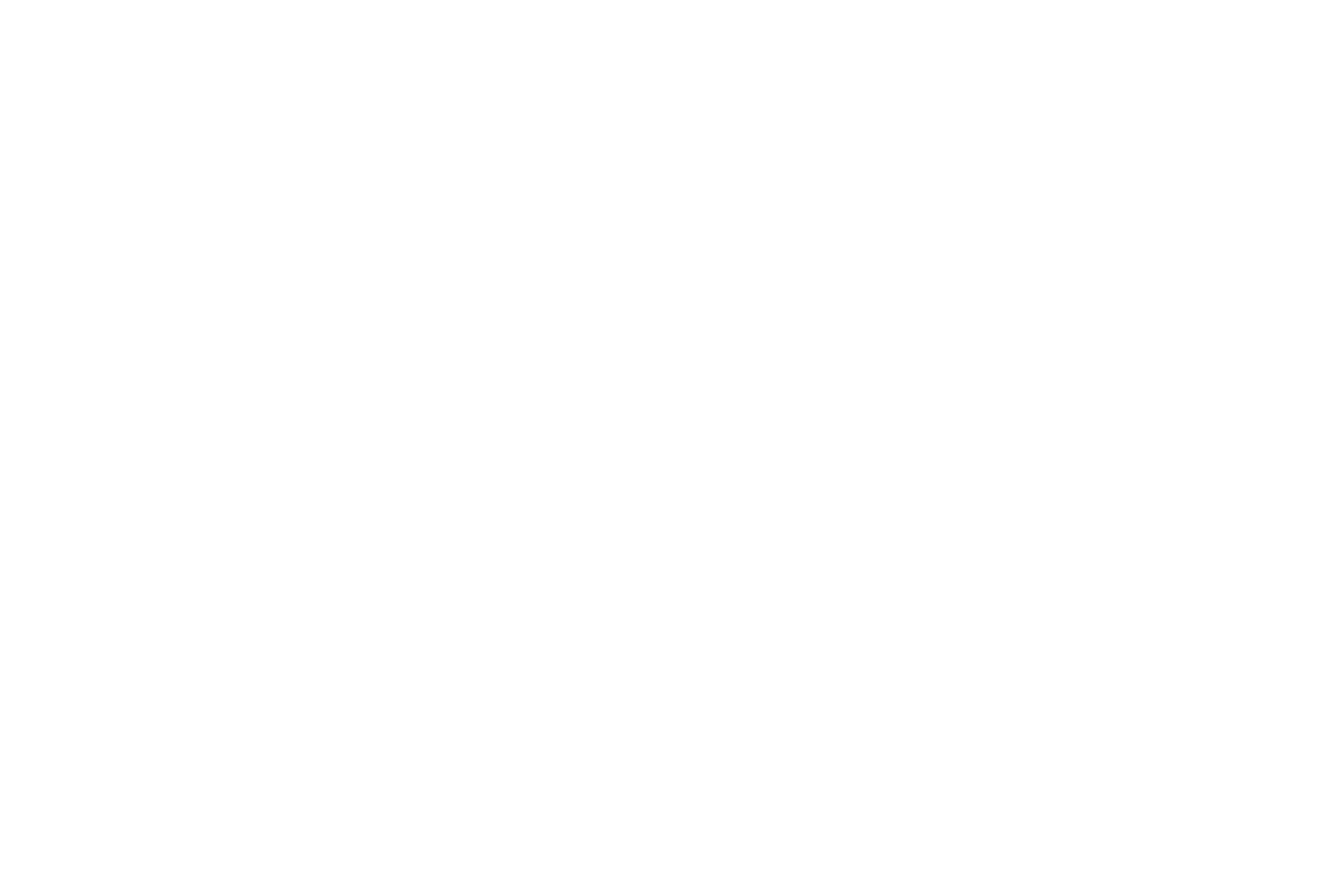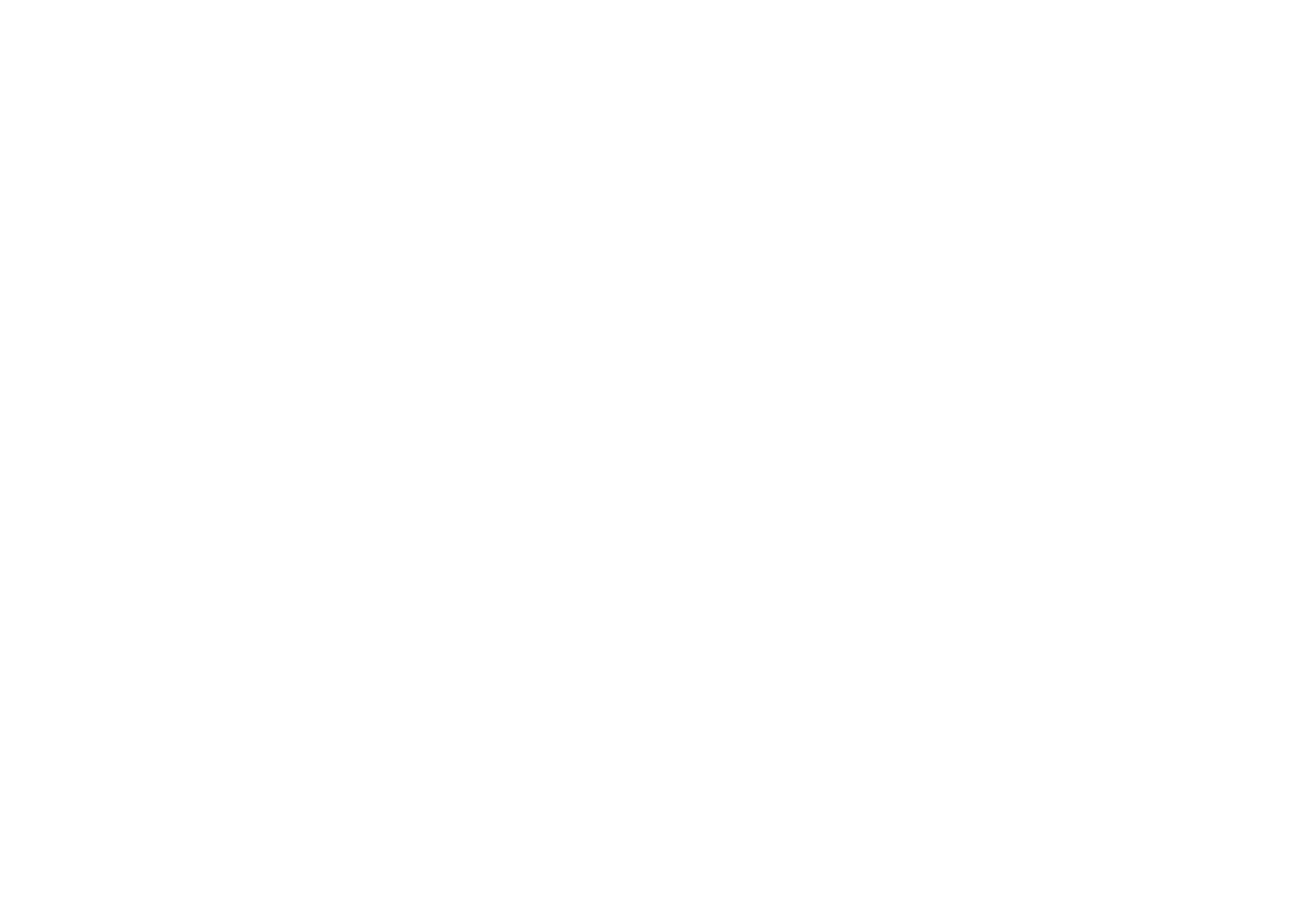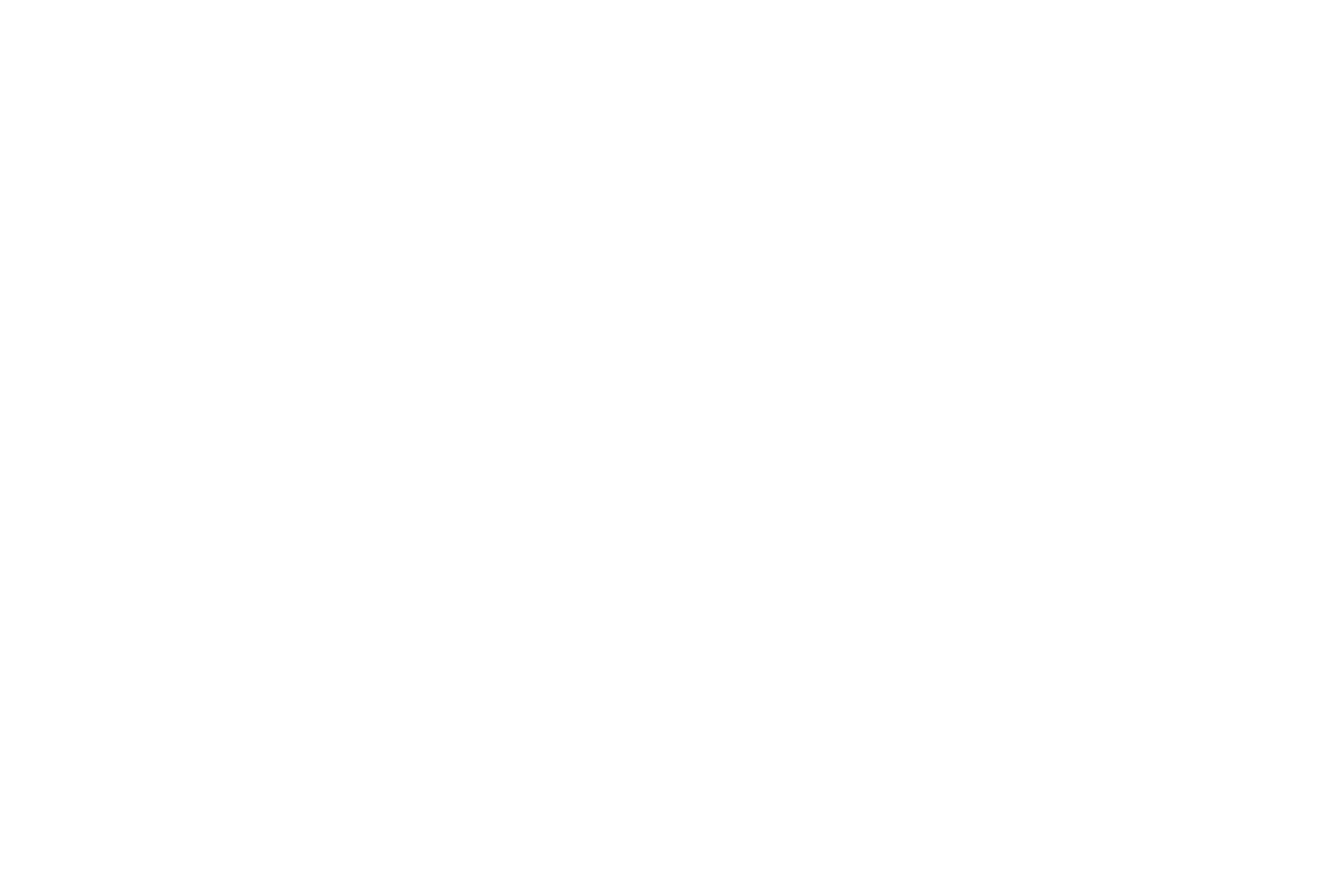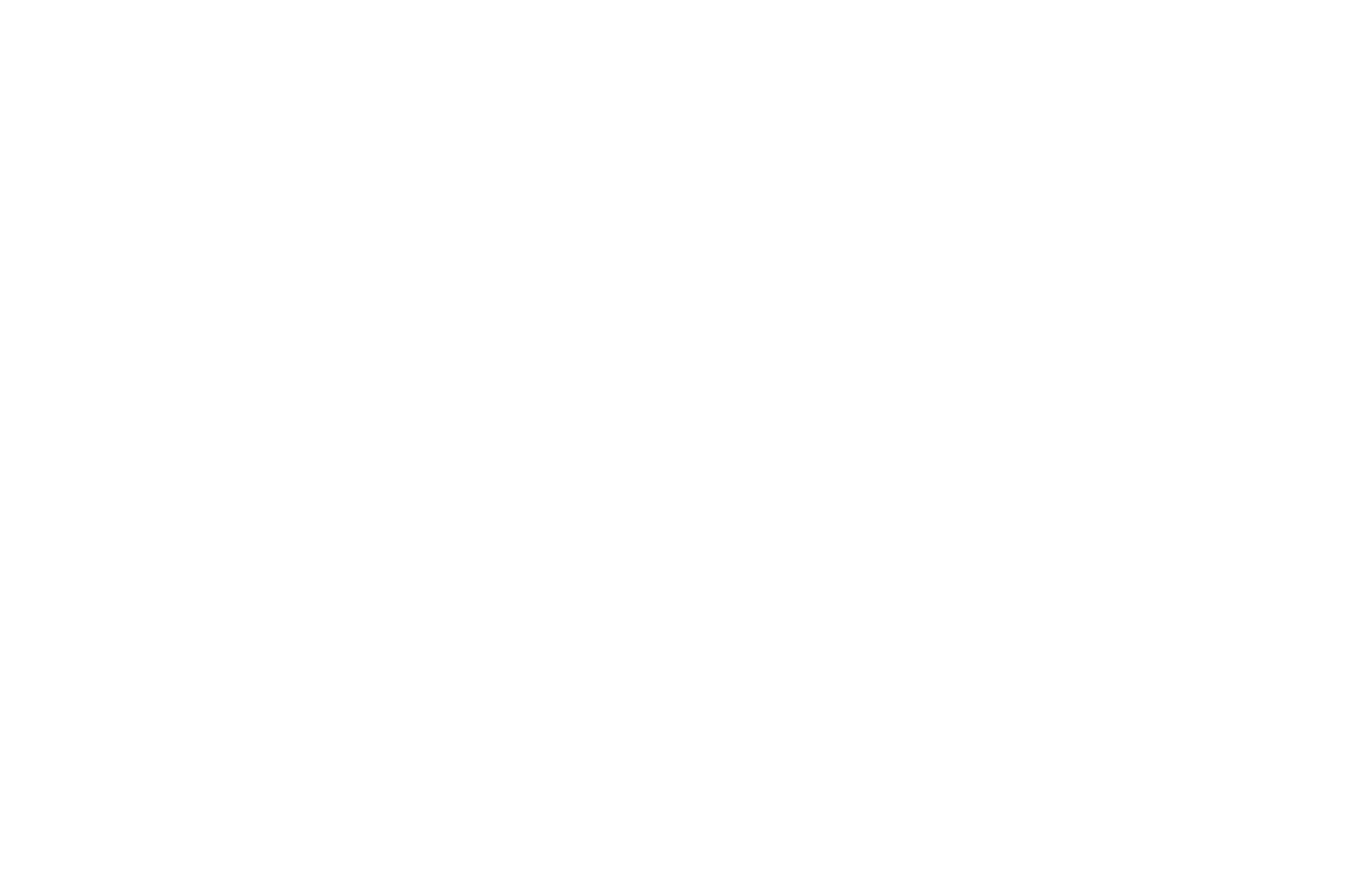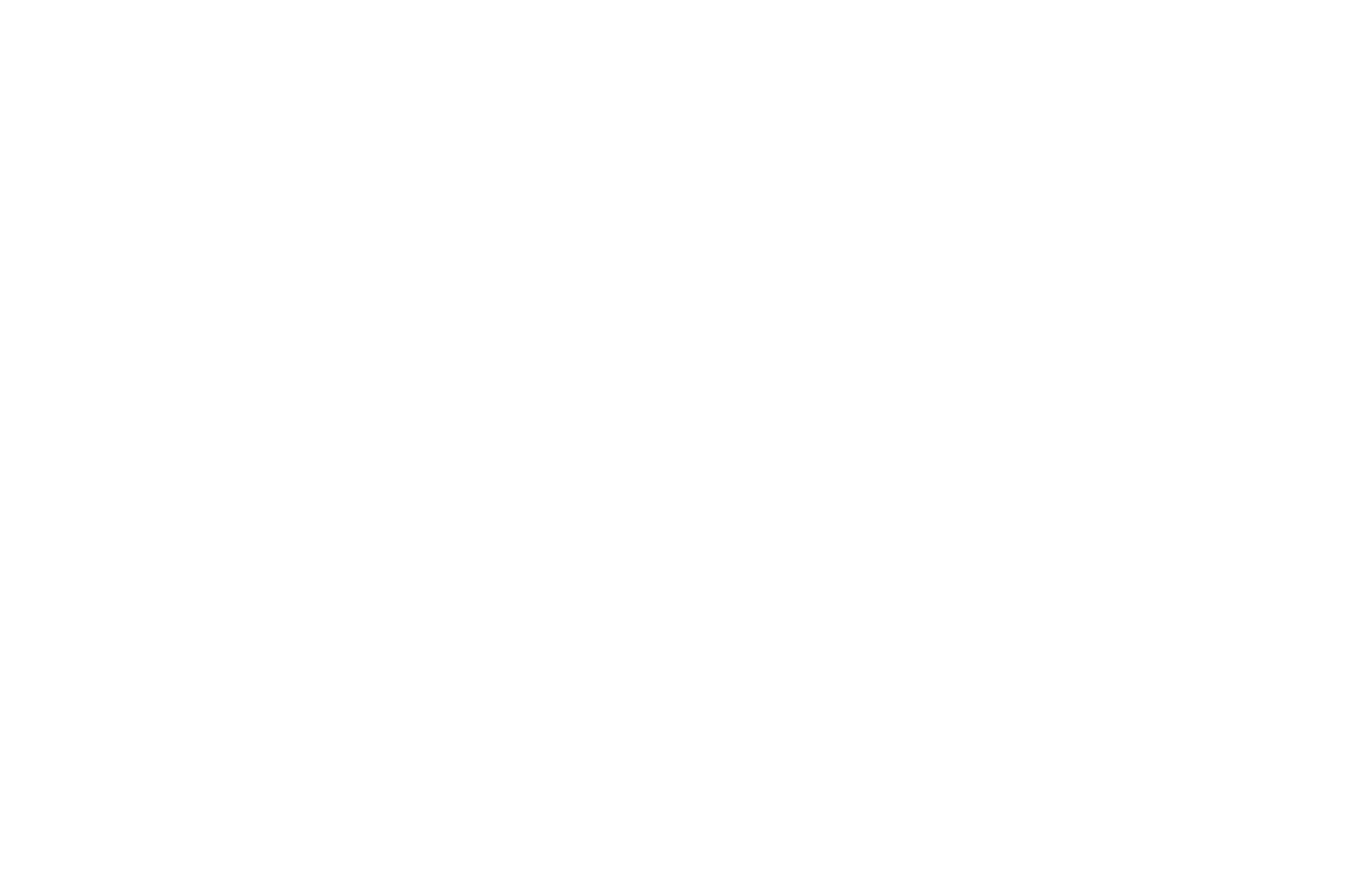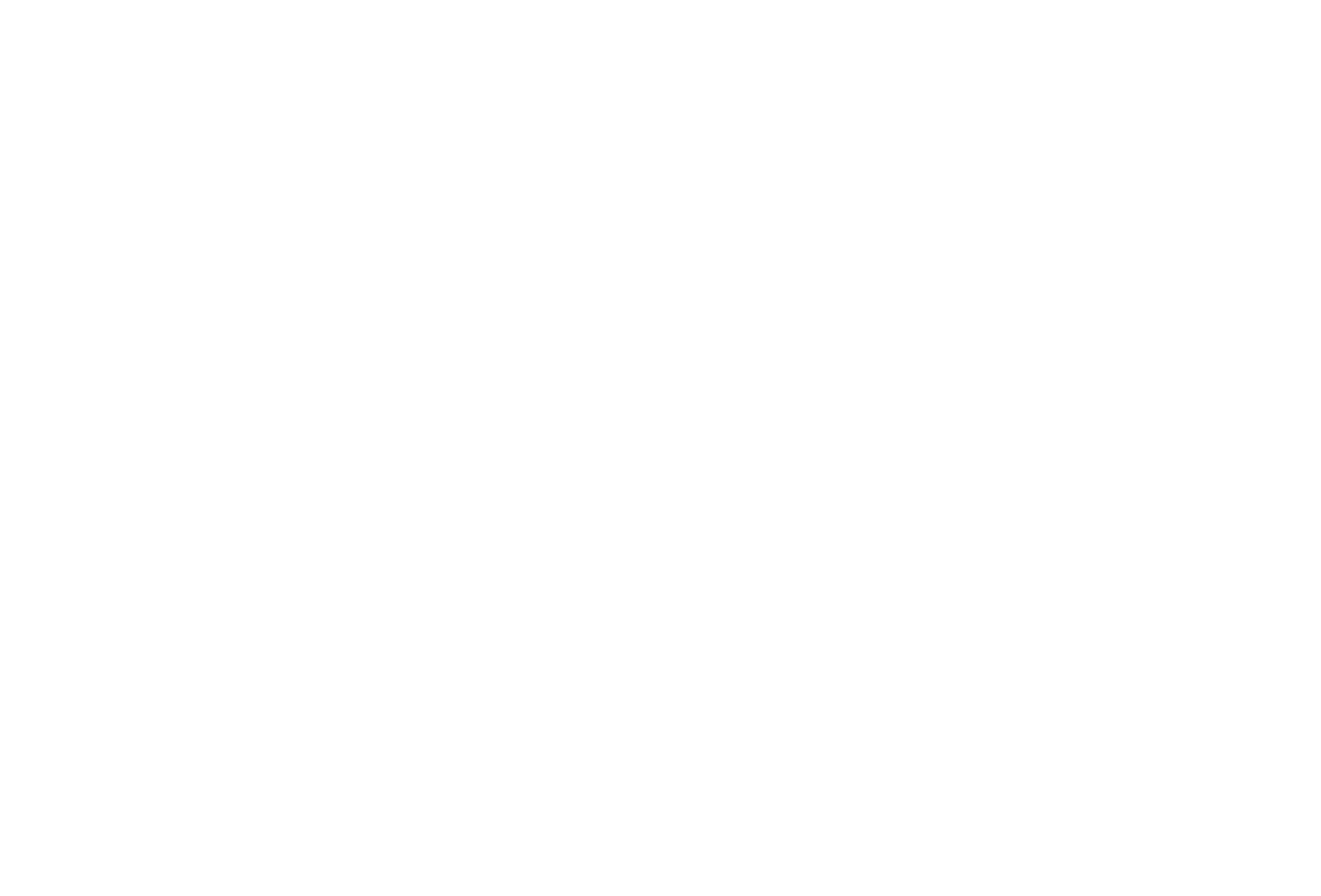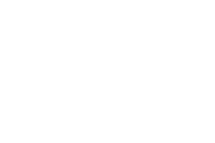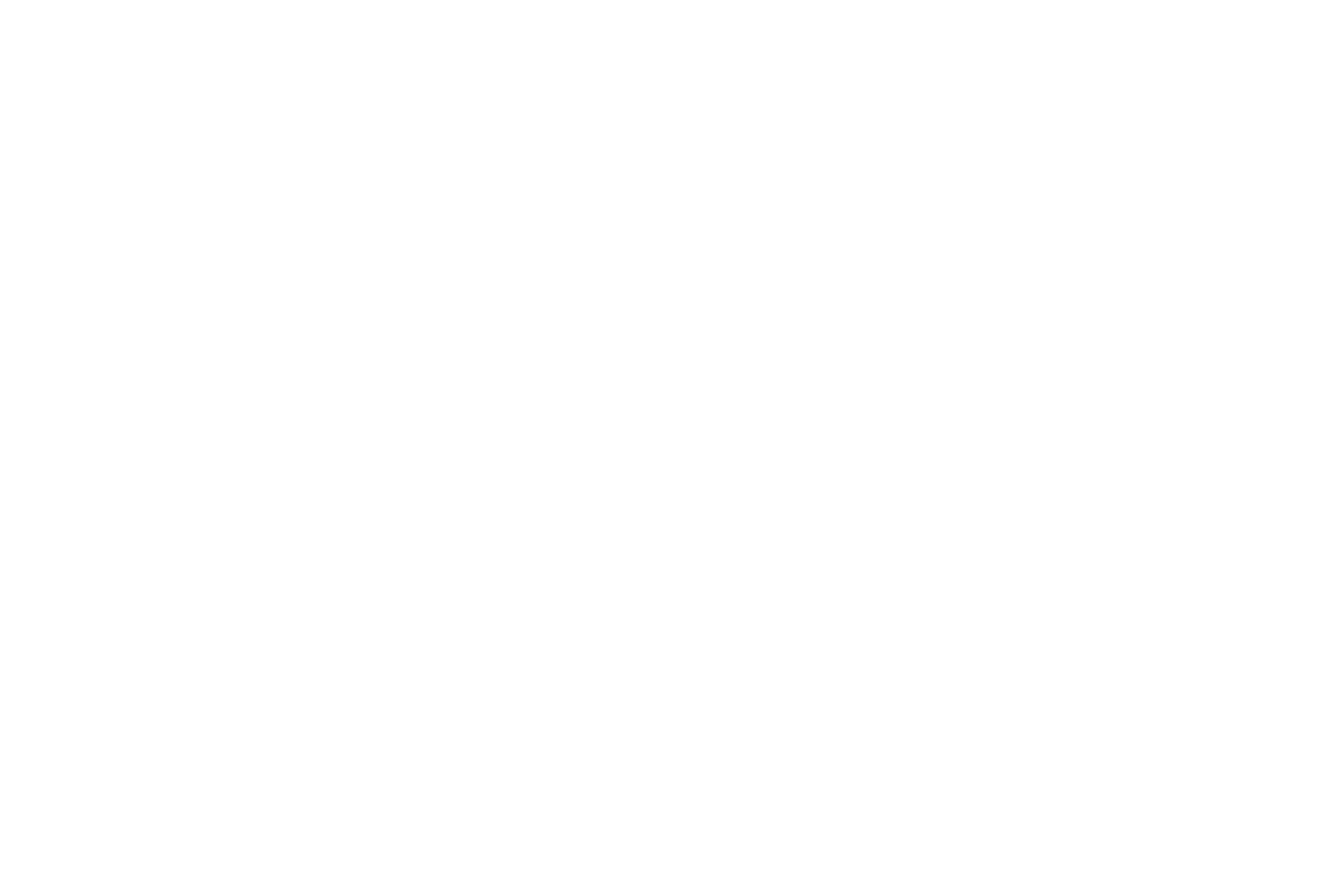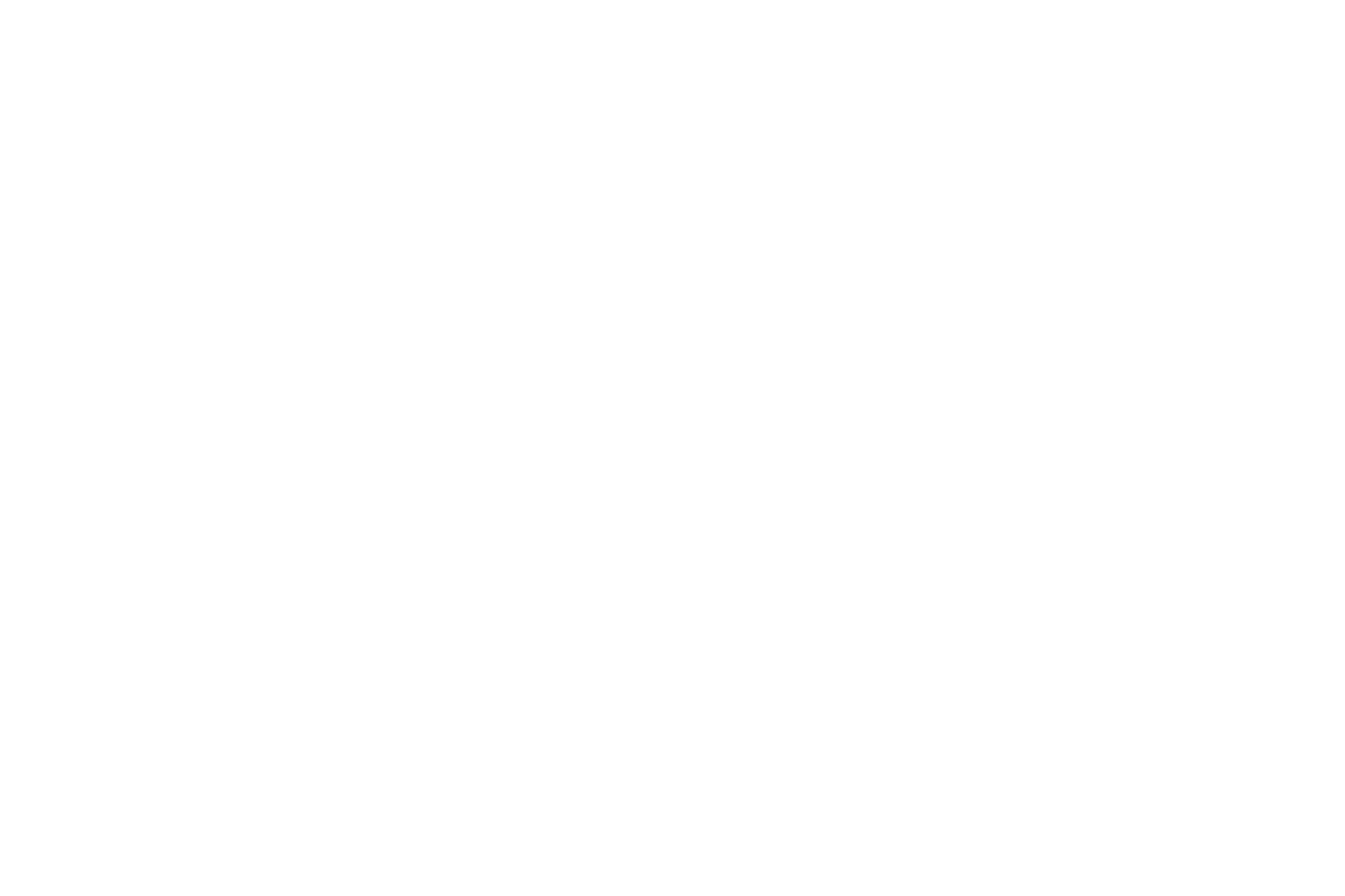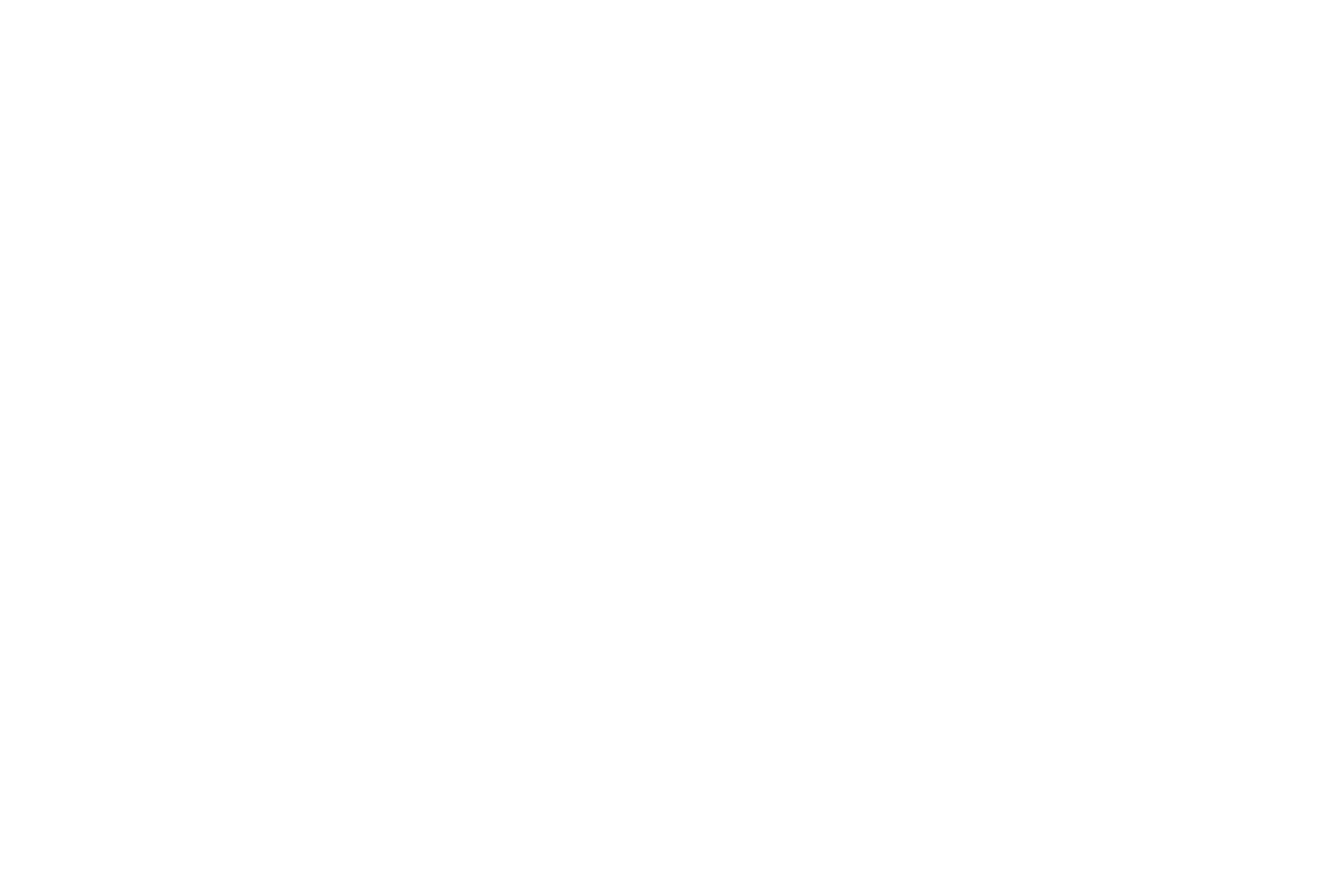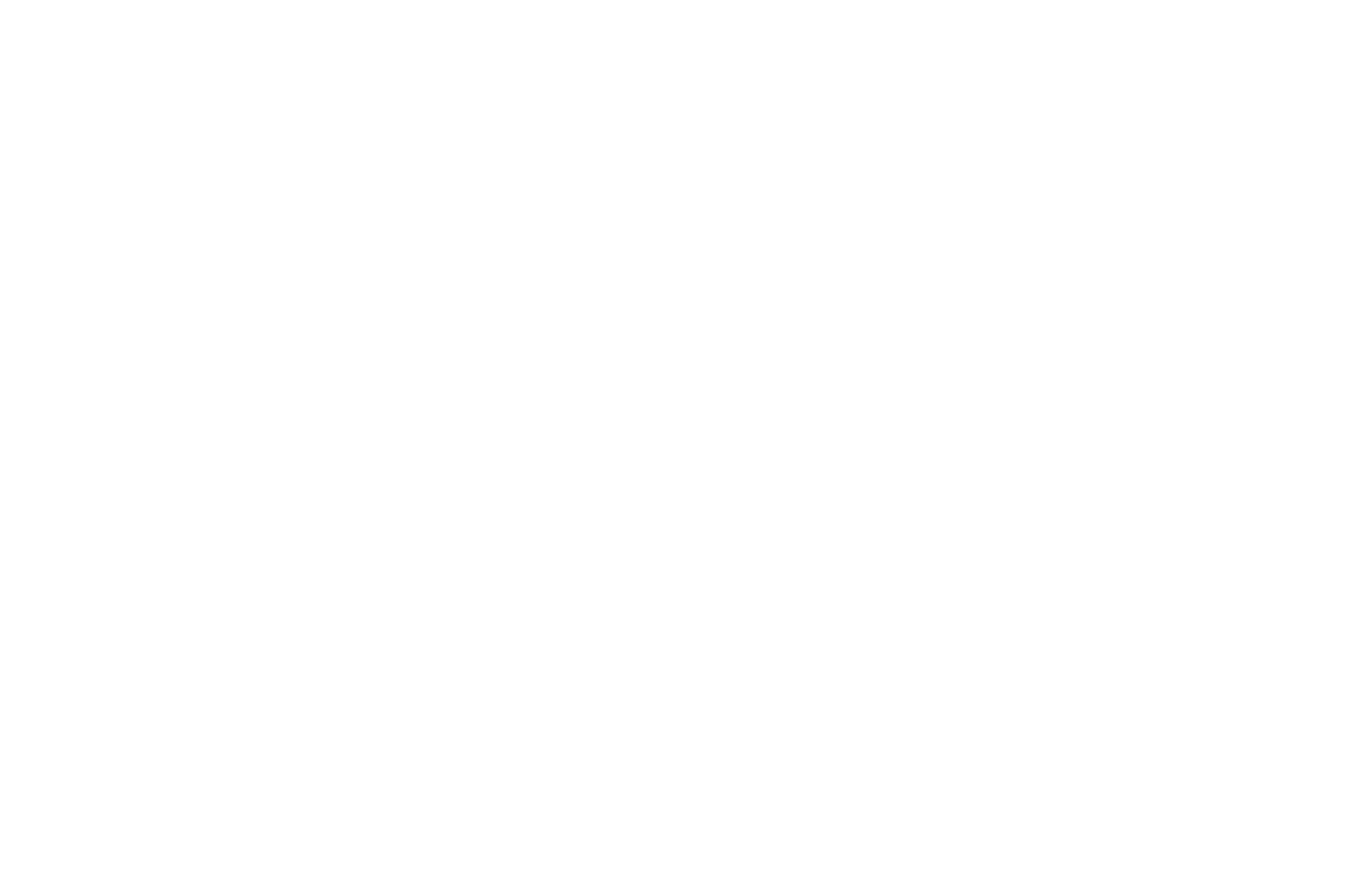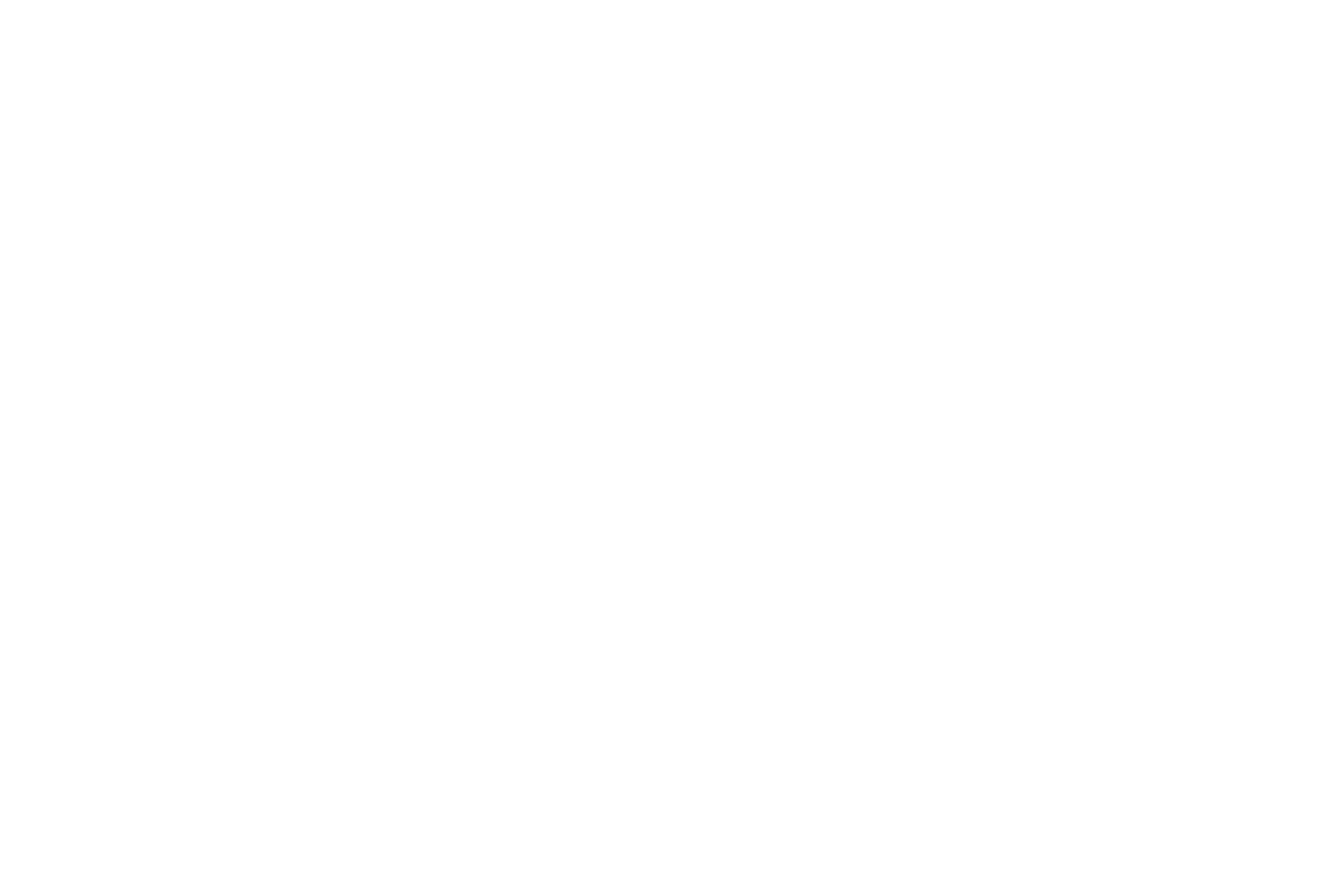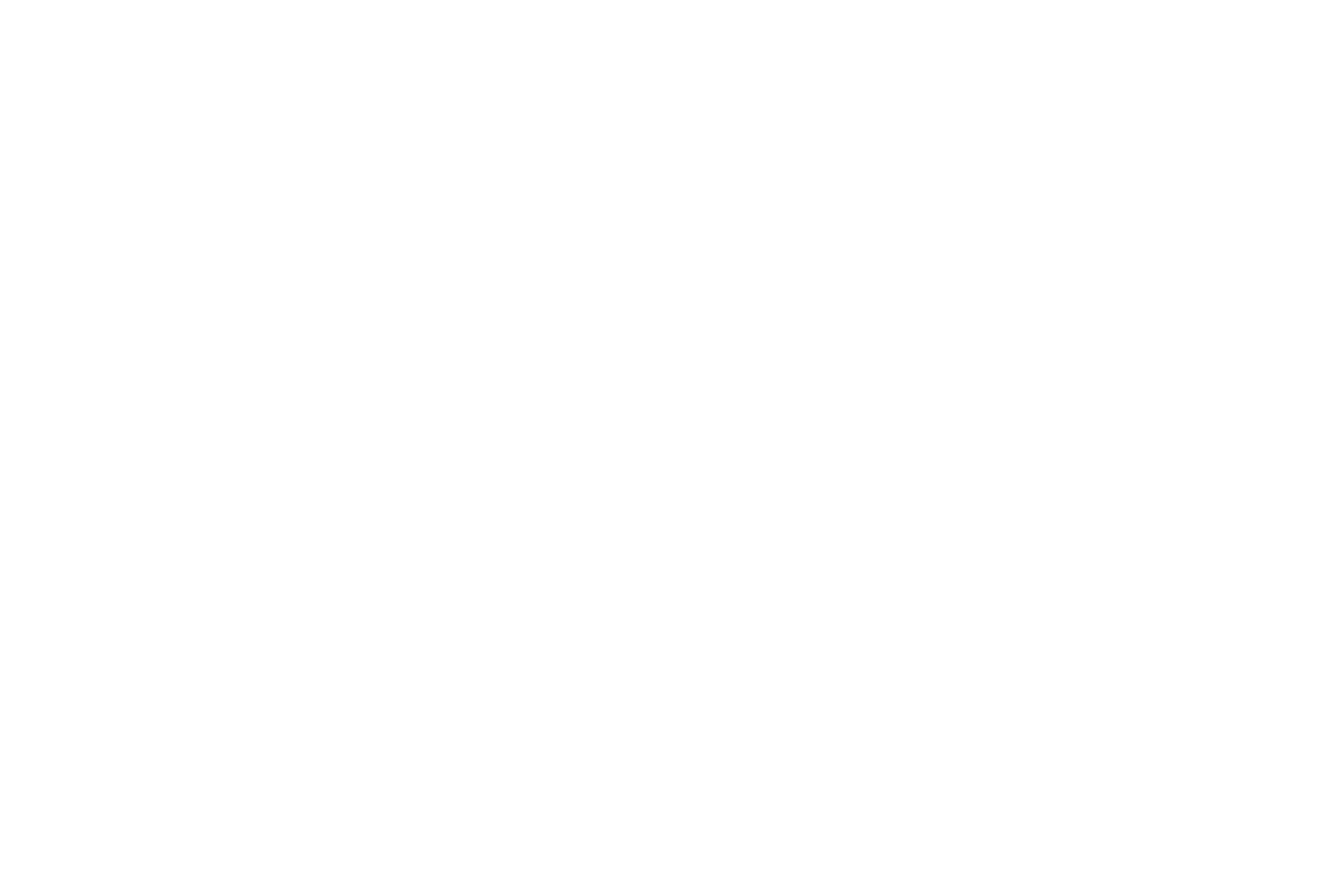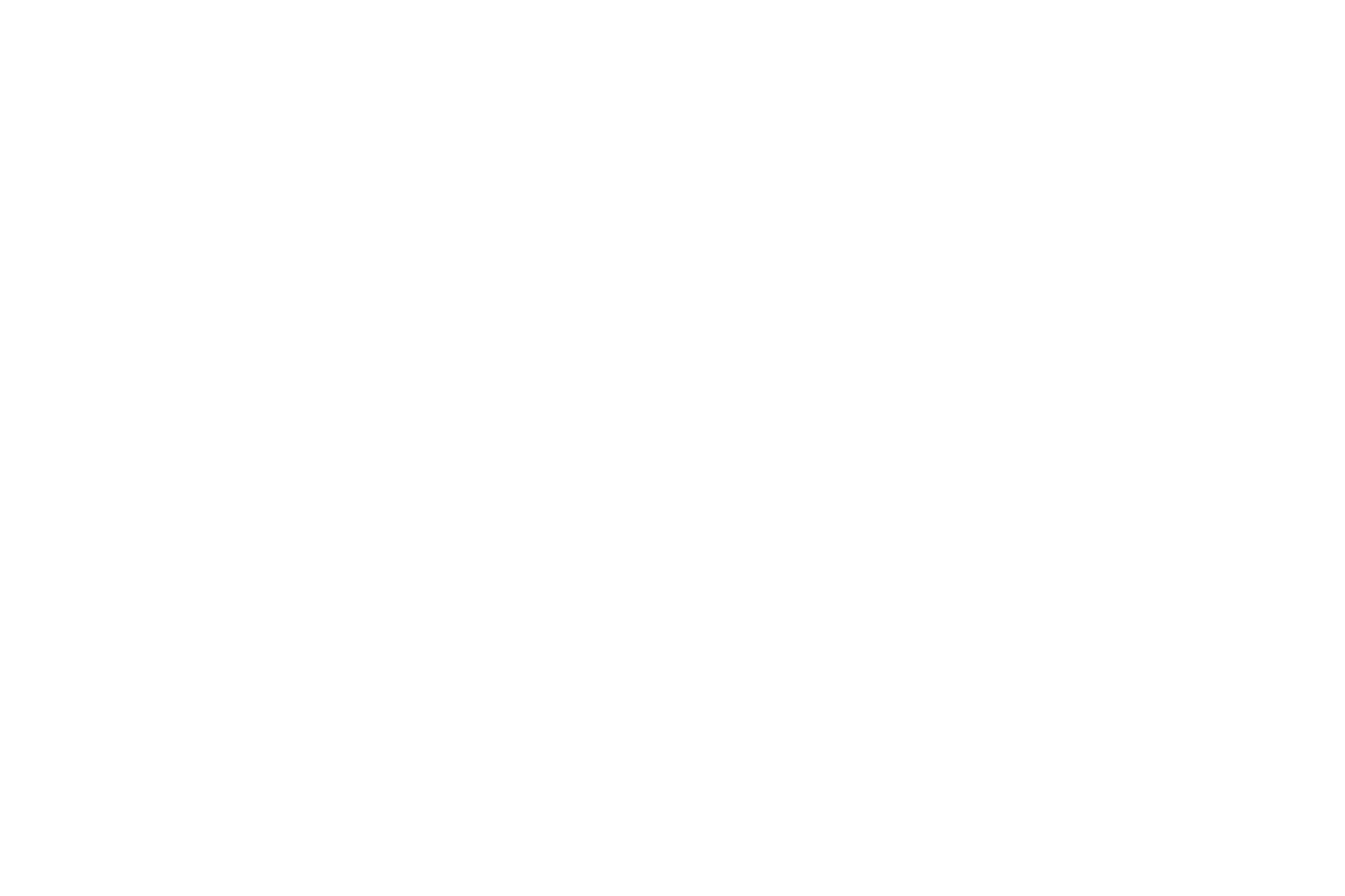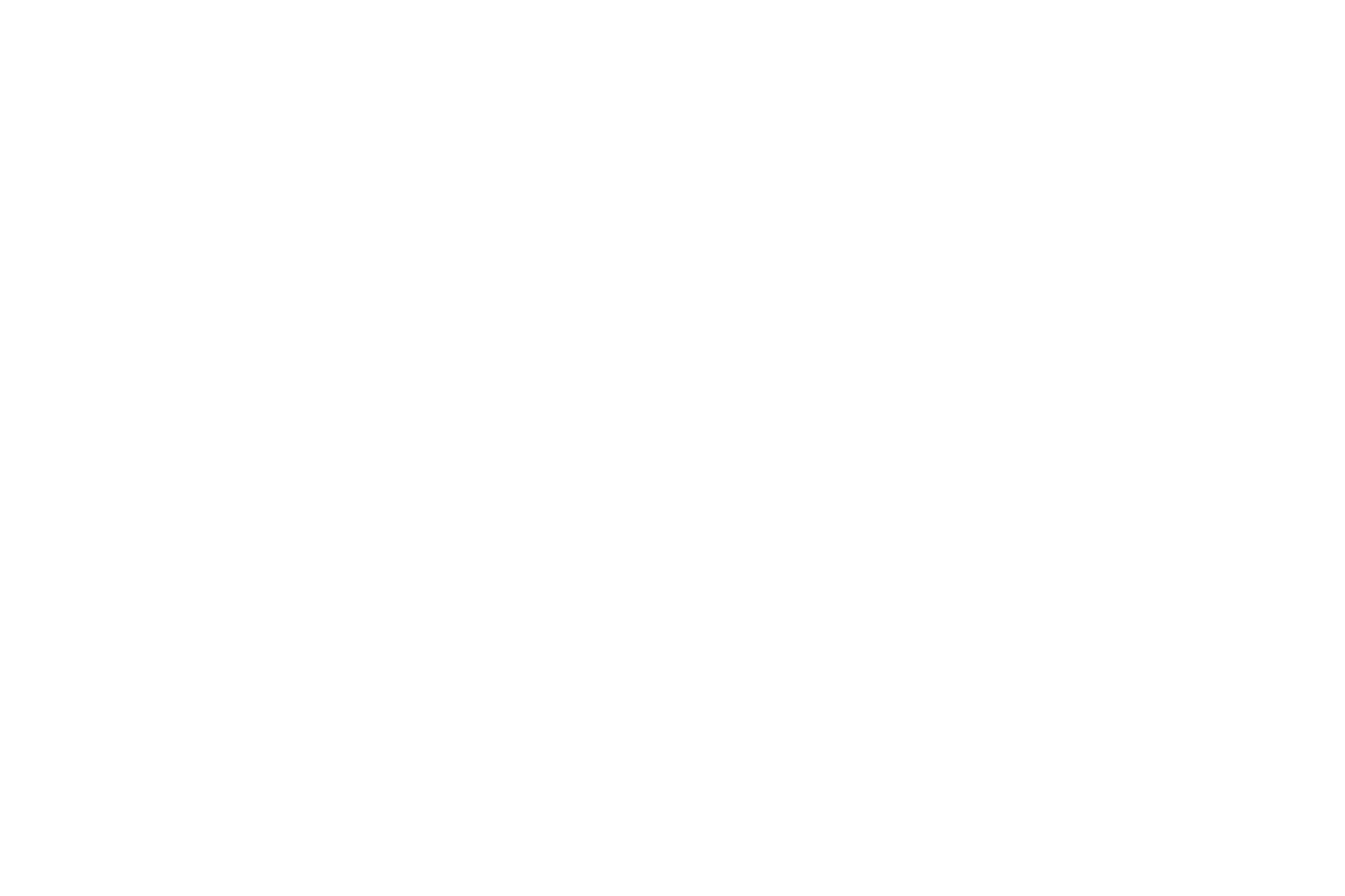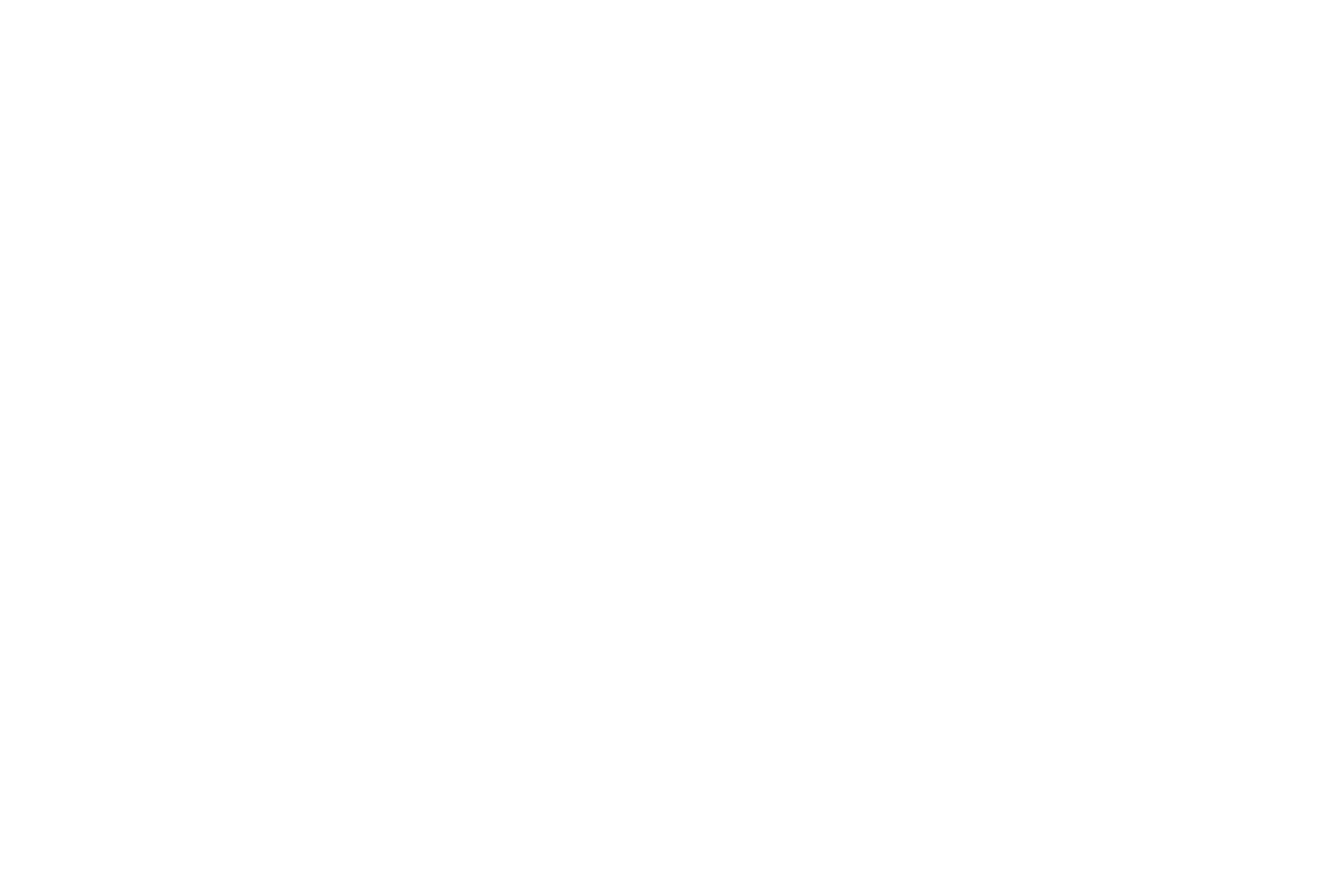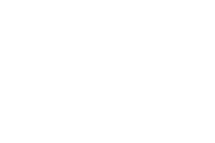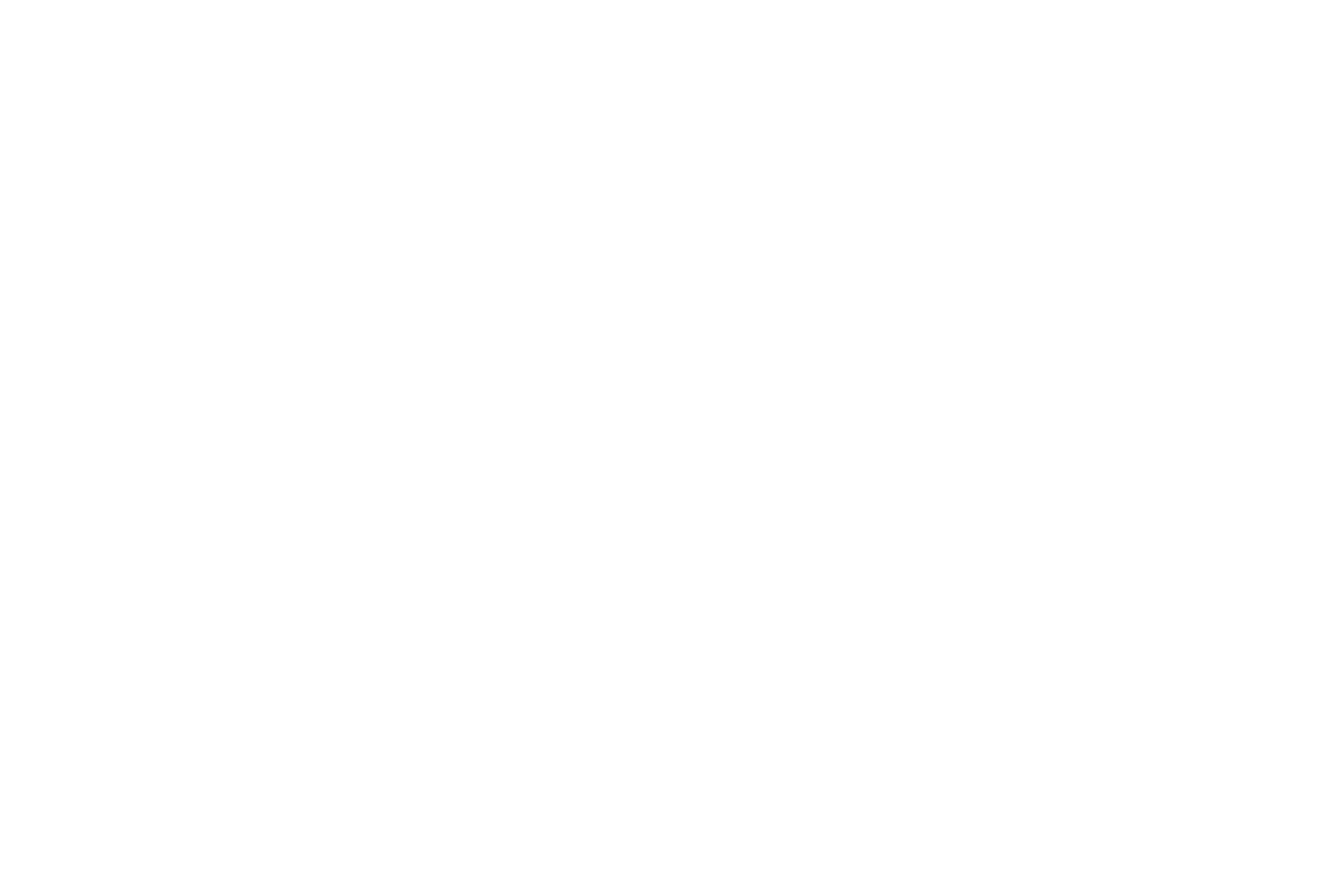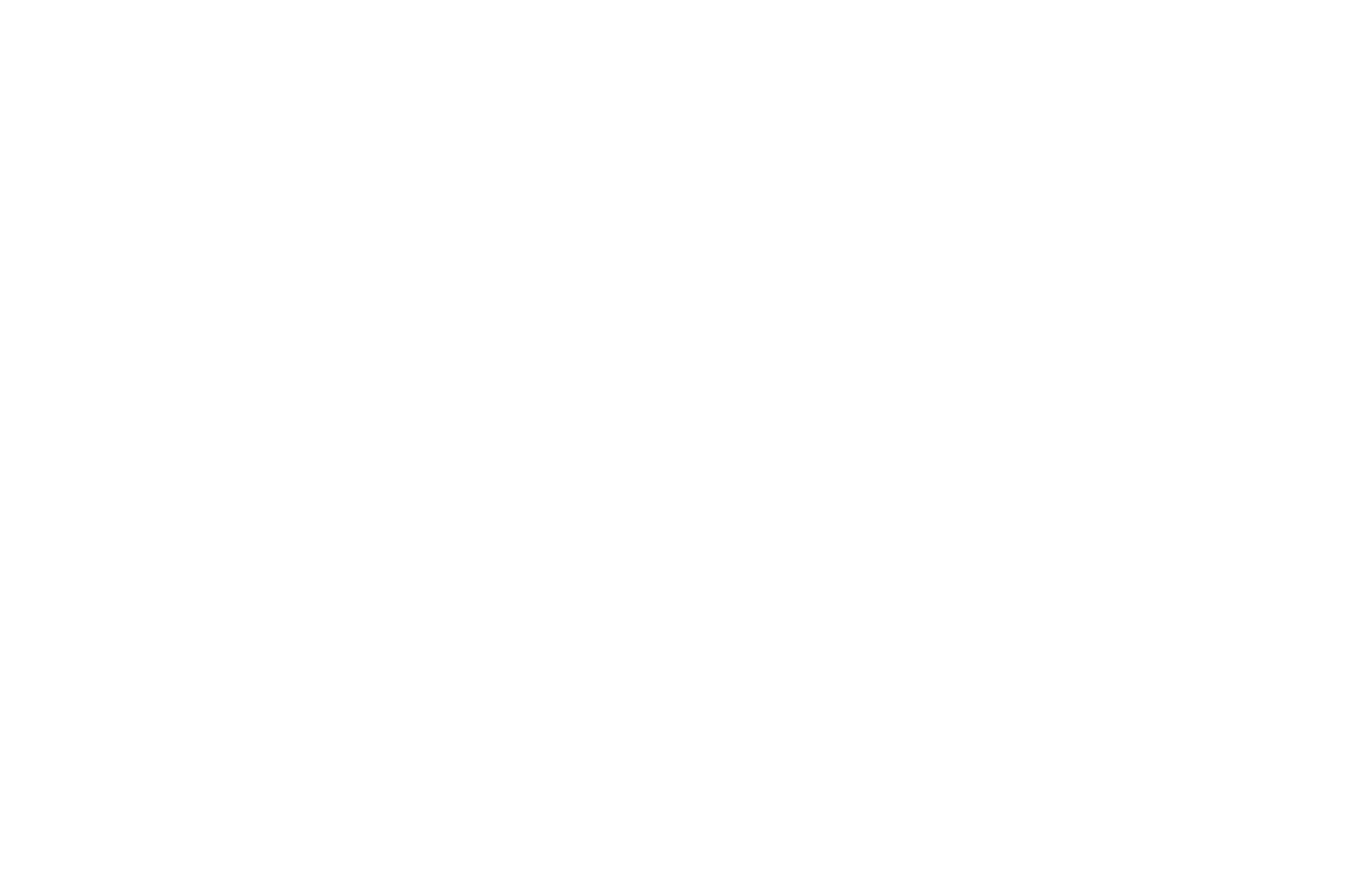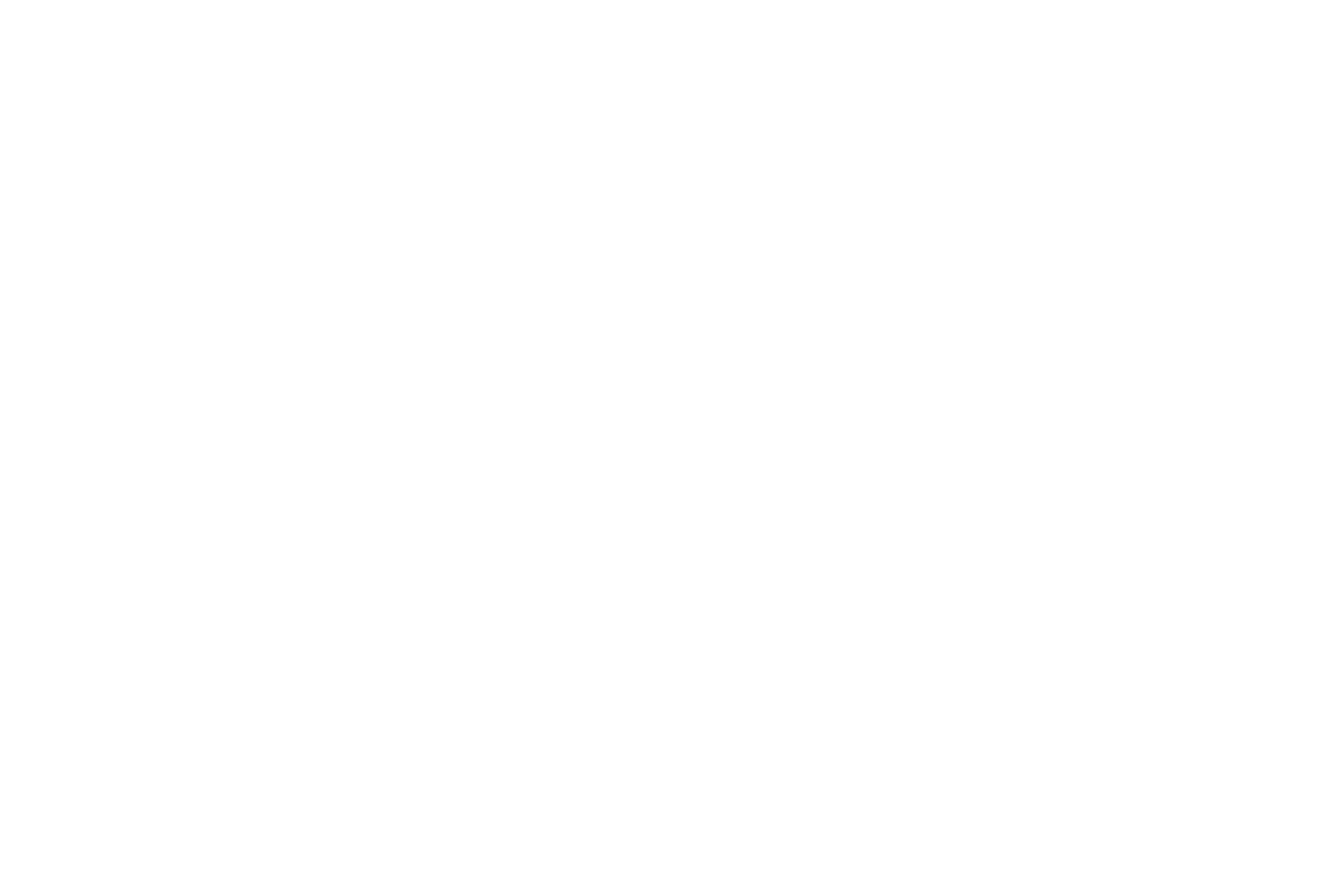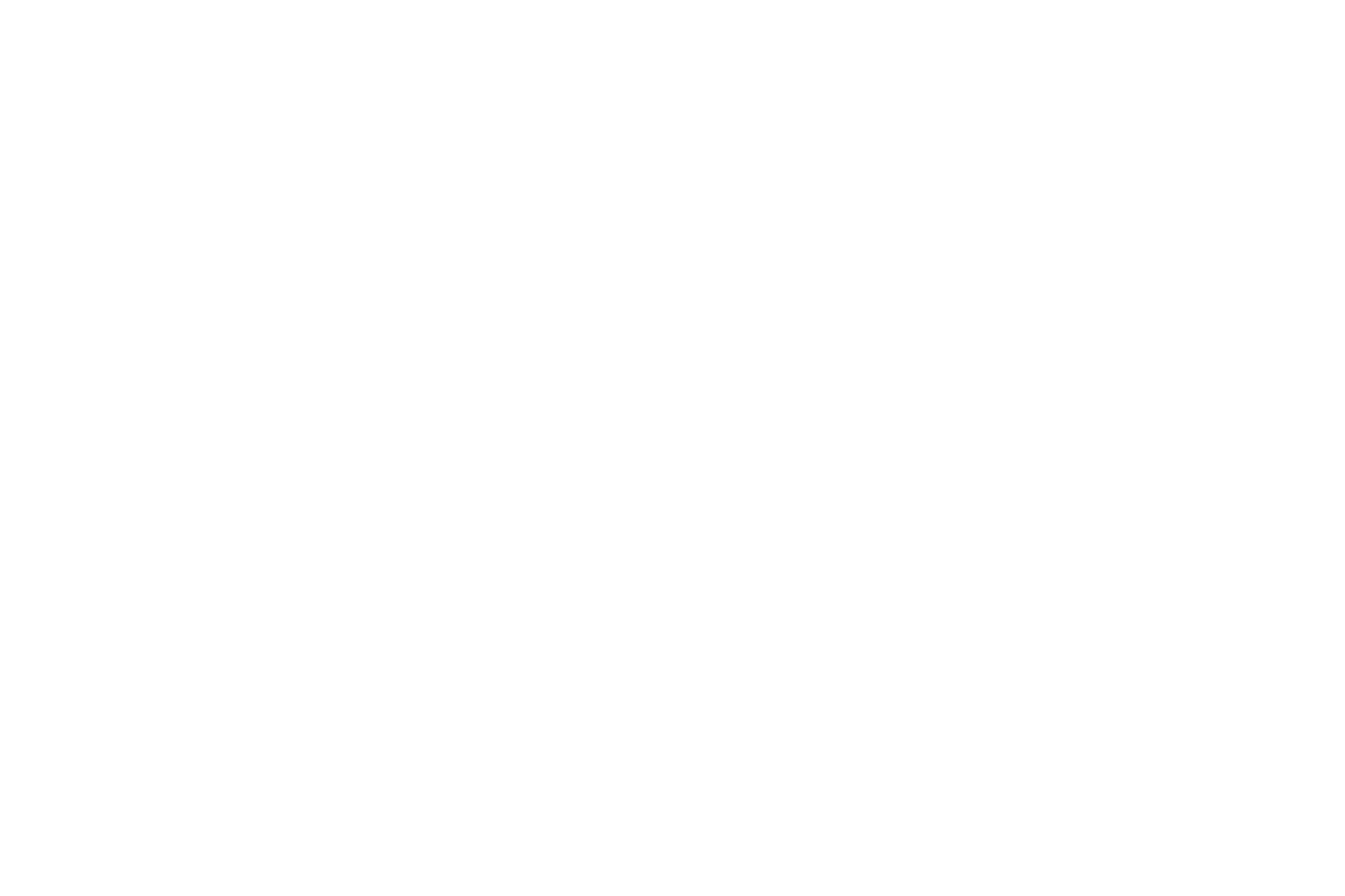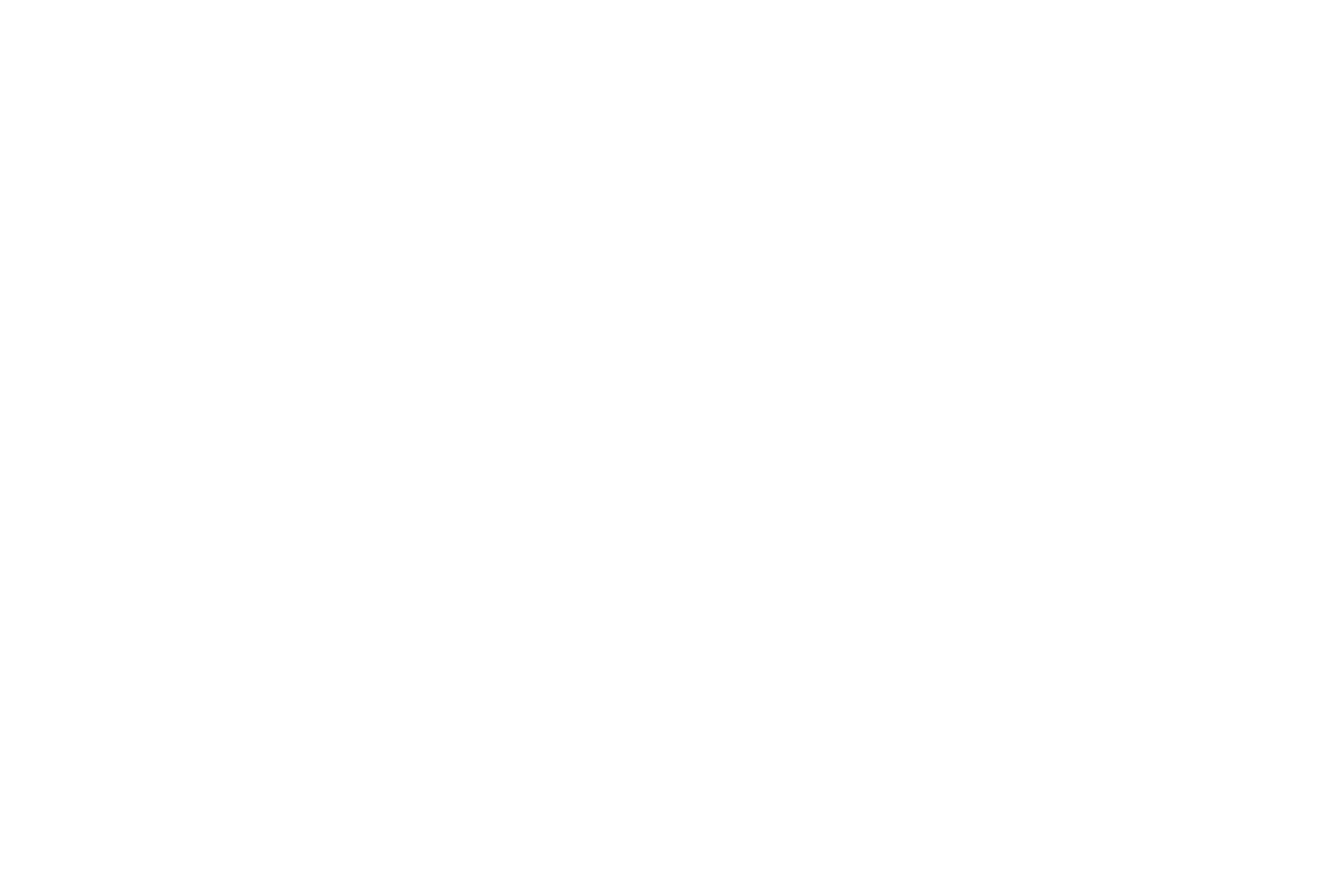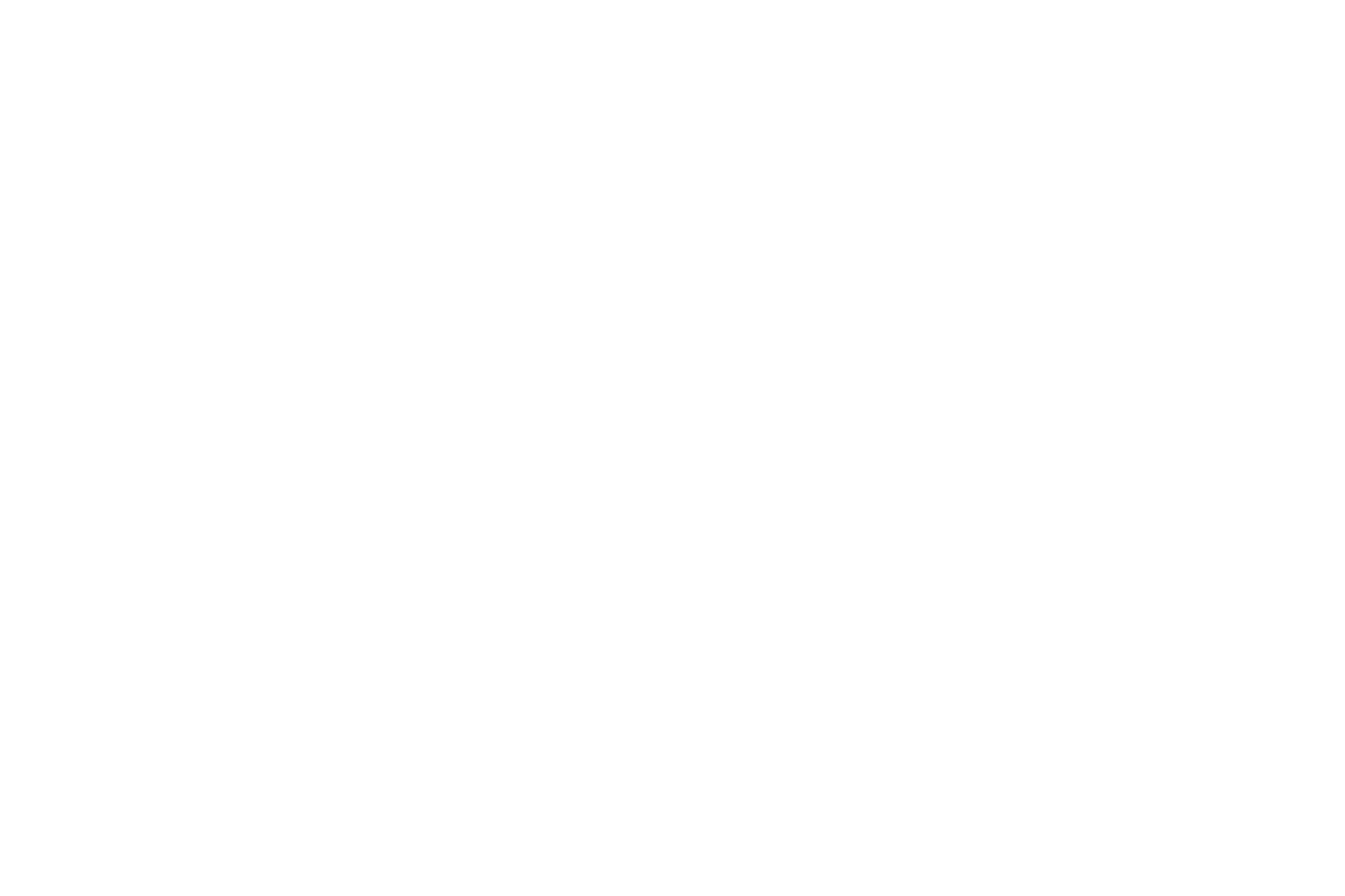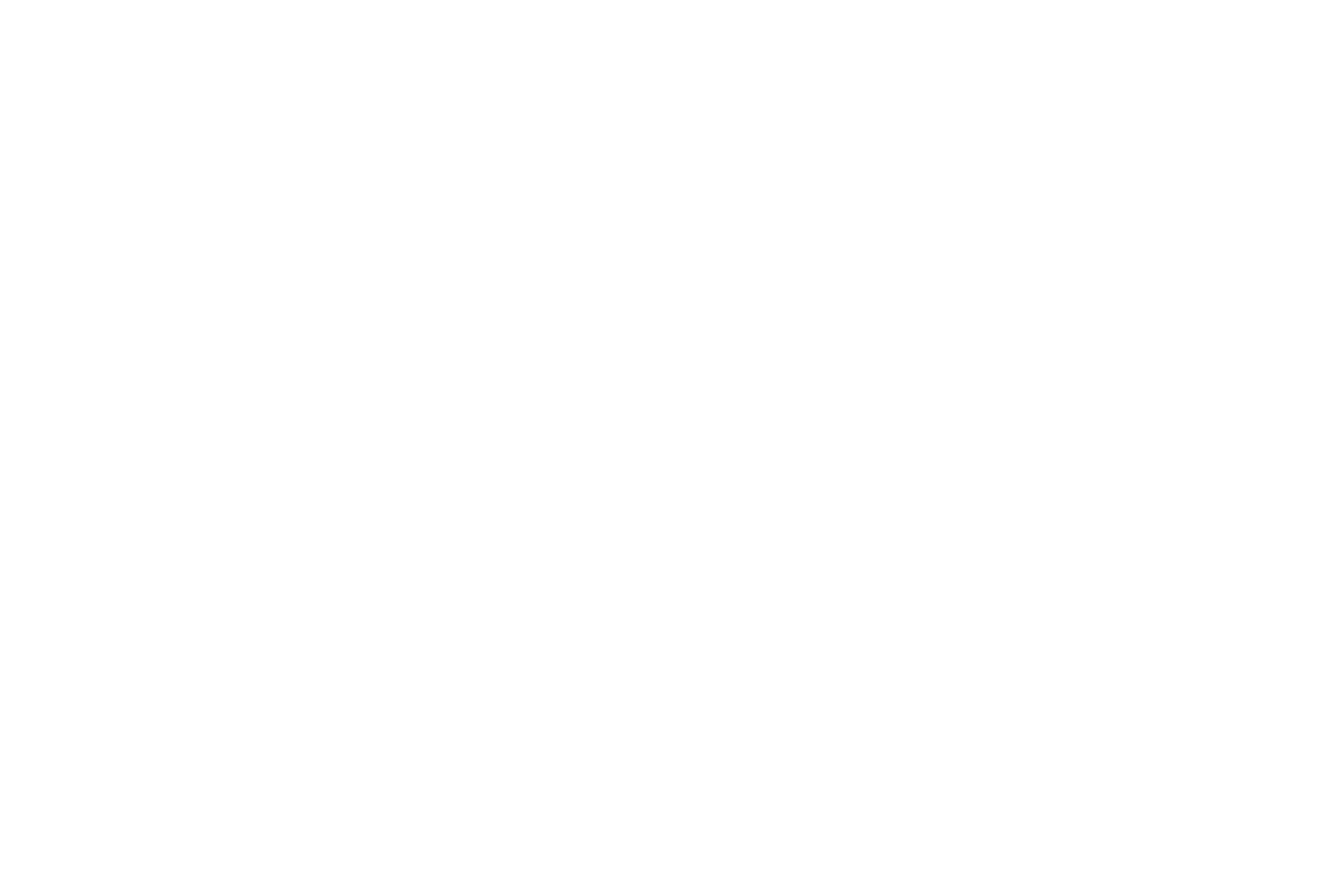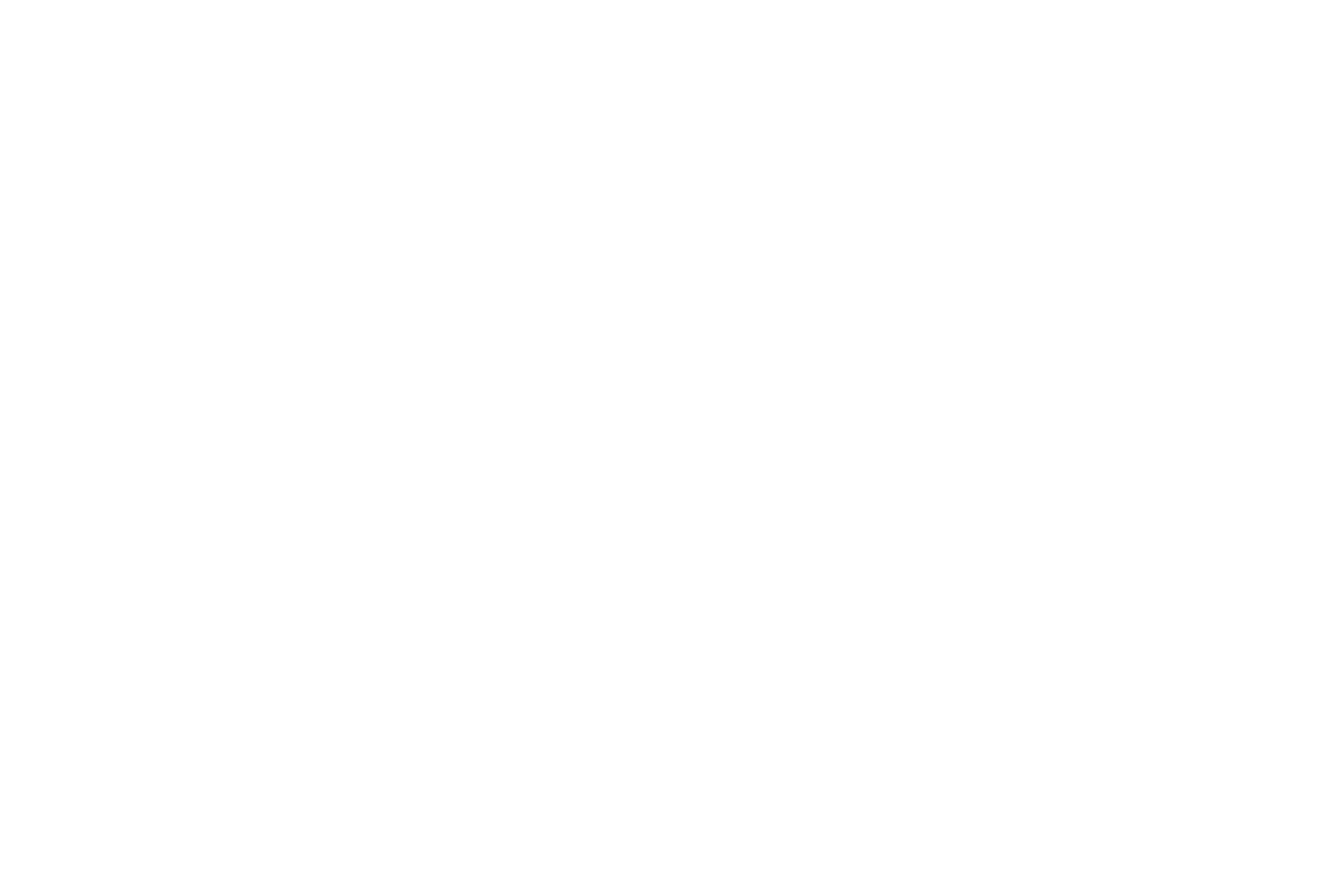СЛОВА, КОТОРЫХ НЕТ
Персональная выставка Сергея Шеховцова
26.10 — 26.11.2016
26.10 — 26.11.2016
На что похожи слова? Леонид Липавский, вероятно, думал, что на атомы: основы слов вращаются, теряя или наоборот присоединяя буквы, и так возникают новые слова. Эта естественно-научная фантазия 1935 года свидетельствует об эмансипации слов. Они, как и вещи, освободились от власти человека и ведут свое материалистическое существование. Слова на свободе, выпущенные из своих клеток в 1913 году футуристом Филиппо Томмазо Маринетти, спустя сто лет на выставке Сергея Шеховцова, или Поролона вернулись к нам с городскими голубями, засидевшими слово «Мир» и слово «Love».
Поролон, уникальный скульптор, резцу которого в мягком бытовом материале доступно изображение буквально Всего, решил представить нам мир абстрактных понятий, особых слов, означающих самые основы жизни и способных меняться до неузнаваемости (все ведь знают, что мир – это война, из опыта Джорджа Оруэлла, полученного в интербригадах на гражданской войне в Испании в 1936-м).
Поролон избегает наиболее распространенного политизированного способа представлять слова как подручные инструменты общества спектакля. В его версиях нет отсылок ни к лозунгам Комара-Меламида, Эрика Булатова или Барбары Крюгер, ни к бегущим строкам увещеваний Дженни Хольцер, ни к соблазнительным неоновым мантрам Брюса Наумана или Трэси Эмин. Точнее говоря, в них это все есть, но уже в виде самой реальности, притёршейся, адаптировавшейся к идеологическим веяниям, техническим новациям и антропогенному фактору, как голуби притерлись к своим карнизам и адаптировались к суете ног на тротуарах.
Слова Поролона – это метафоры того, чем мы живем сейчас. Наша свобода – брусок сыра, засунутый одним концом в мышеловку. И, конечно, она пишется латиницей, как и любовь с надеждой – три сувенира молодежных революций 1960-х. Наша надежда – веревка с разлохмаченными, перетершимися концами, или радужный фонтанчик пены, вырвавшийся из банки энерджайзера. Наш отдых – пестрое граффити на бетонном заборе, за которым виднеется одинокая пальма, и это, разумеется – rest, одновременно и все, что нам осталось-досталось. Наша злость из гвоздей группы «Зеро», или, может, из ржавчины развитого социализма, а рай – скрытая за толстым слоем штукатурки старая кирпичная кладка. И, наконец, наш мир торчит над крышей, весь в голубином помете, светится красной линией неоновой трубки рядом со своей соседкой – камерой наружного наблюдения. И у нас еще есть гармония – самое сложное слово, между буквами которого застрял залетевший сюда случайно волланчик и теннисные мячики. Harmony балансирует на цилиндре и уравновешена в конце кирпичом, а чем же еще? Хотя есть подозрение, что именно непрошенные мячики ее как раз и страхуют.
В мире Поролона все точно, все – правда, все - «реализм действительной жизни», если выражаться словами Достоевского, который думал о тех поразительных случаях, когда ход вещей вдруг просияет событием истины. Искусство, как известно, и живет потому, что такие парадоксальные события бывают. Поролон помнит об этой вере, осеняющей его ремесло. И, возможно, поэтому, наряду с «Hope», «Миром» и «Раем», собирает на двух языках самый древний зачин человеческой истории: «Once upon a time», или «Жили-были». В обоих вариантах это «так случилось некогда» представлено забором. Калитки там и здесь на замке, череп тотемного животного коровы водружен на кол и охраняет от злых соседских духов. Есть еще незначительные бытовые отличия, но – главное - тут и там приделаны к забору цветочный ящик и ваза-горшок, потому что, соорудив частокол, его все-таки сразу же украсили. Может, строитель и «ландшафтный дизайнер» – был один и тот же персонаж, совместивший в себе обе силы изменять мир: ограничительную и расширительную, разрушительную и созидательную.
Поролон, уникальный скульптор, резцу которого в мягком бытовом материале доступно изображение буквально Всего, решил представить нам мир абстрактных понятий, особых слов, означающих самые основы жизни и способных меняться до неузнаваемости (все ведь знают, что мир – это война, из опыта Джорджа Оруэлла, полученного в интербригадах на гражданской войне в Испании в 1936-м).
Поролон избегает наиболее распространенного политизированного способа представлять слова как подручные инструменты общества спектакля. В его версиях нет отсылок ни к лозунгам Комара-Меламида, Эрика Булатова или Барбары Крюгер, ни к бегущим строкам увещеваний Дженни Хольцер, ни к соблазнительным неоновым мантрам Брюса Наумана или Трэси Эмин. Точнее говоря, в них это все есть, но уже в виде самой реальности, притёршейся, адаптировавшейся к идеологическим веяниям, техническим новациям и антропогенному фактору, как голуби притерлись к своим карнизам и адаптировались к суете ног на тротуарах.
Слова Поролона – это метафоры того, чем мы живем сейчас. Наша свобода – брусок сыра, засунутый одним концом в мышеловку. И, конечно, она пишется латиницей, как и любовь с надеждой – три сувенира молодежных революций 1960-х. Наша надежда – веревка с разлохмаченными, перетершимися концами, или радужный фонтанчик пены, вырвавшийся из банки энерджайзера. Наш отдых – пестрое граффити на бетонном заборе, за которым виднеется одинокая пальма, и это, разумеется – rest, одновременно и все, что нам осталось-досталось. Наша злость из гвоздей группы «Зеро», или, может, из ржавчины развитого социализма, а рай – скрытая за толстым слоем штукатурки старая кирпичная кладка. И, наконец, наш мир торчит над крышей, весь в голубином помете, светится красной линией неоновой трубки рядом со своей соседкой – камерой наружного наблюдения. И у нас еще есть гармония – самое сложное слово, между буквами которого застрял залетевший сюда случайно волланчик и теннисные мячики. Harmony балансирует на цилиндре и уравновешена в конце кирпичом, а чем же еще? Хотя есть подозрение, что именно непрошенные мячики ее как раз и страхуют.
В мире Поролона все точно, все – правда, все - «реализм действительной жизни», если выражаться словами Достоевского, который думал о тех поразительных случаях, когда ход вещей вдруг просияет событием истины. Искусство, как известно, и живет потому, что такие парадоксальные события бывают. Поролон помнит об этой вере, осеняющей его ремесло. И, возможно, поэтому, наряду с «Hope», «Миром» и «Раем», собирает на двух языках самый древний зачин человеческой истории: «Once upon a time», или «Жили-были». В обоих вариантах это «так случилось некогда» представлено забором. Калитки там и здесь на замке, череп тотемного животного коровы водружен на кол и охраняет от злых соседских духов. Есть еще незначительные бытовые отличия, но – главное - тут и там приделаны к забору цветочный ящик и ваза-горшок, потому что, соорудив частокол, его все-таки сразу же украсили. Может, строитель и «ландшафтный дизайнер» – был один и тот же персонаж, совместивший в себе обе силы изменять мир: ограничительную и расширительную, разрушительную и созидательную.
Екатерина Андреева