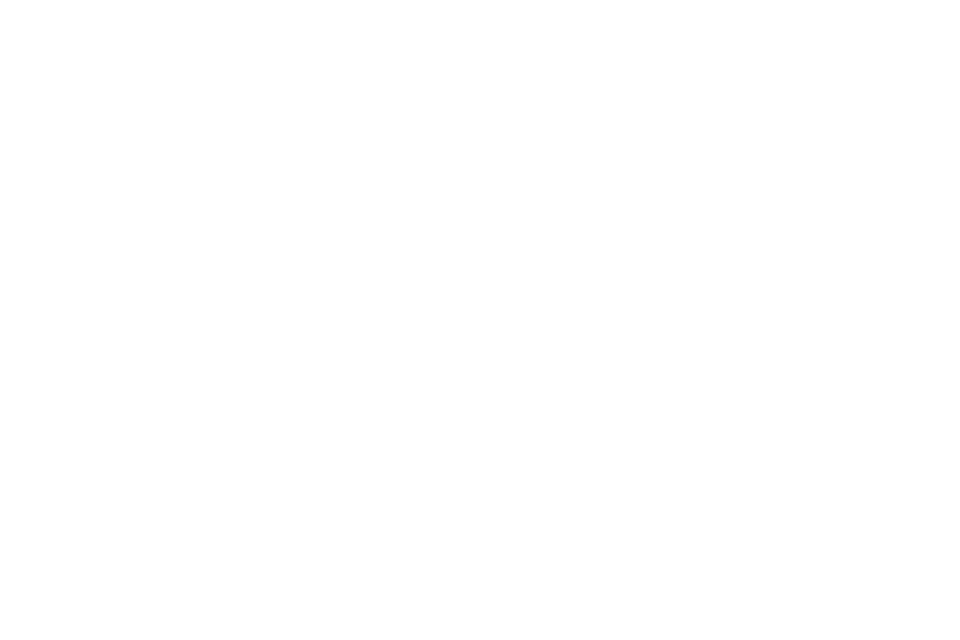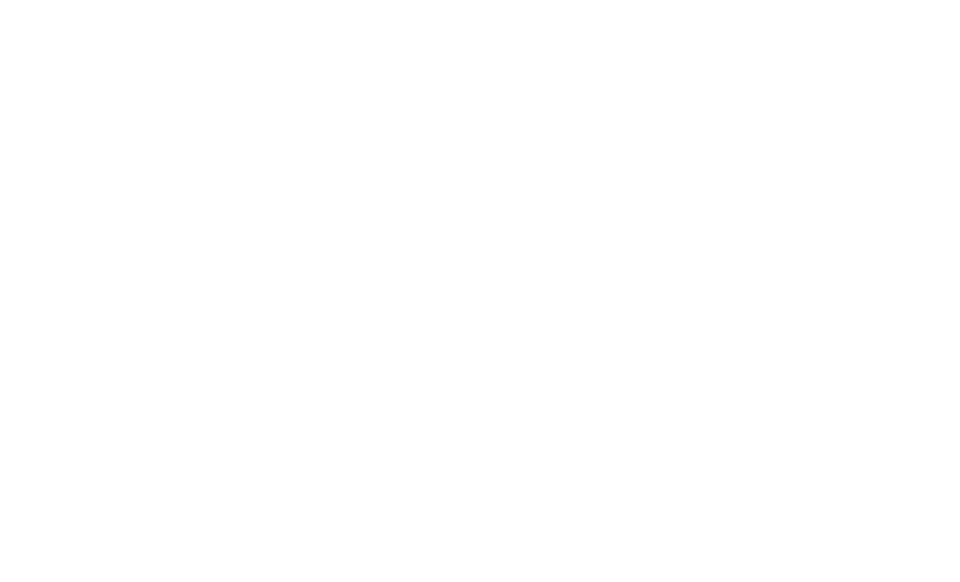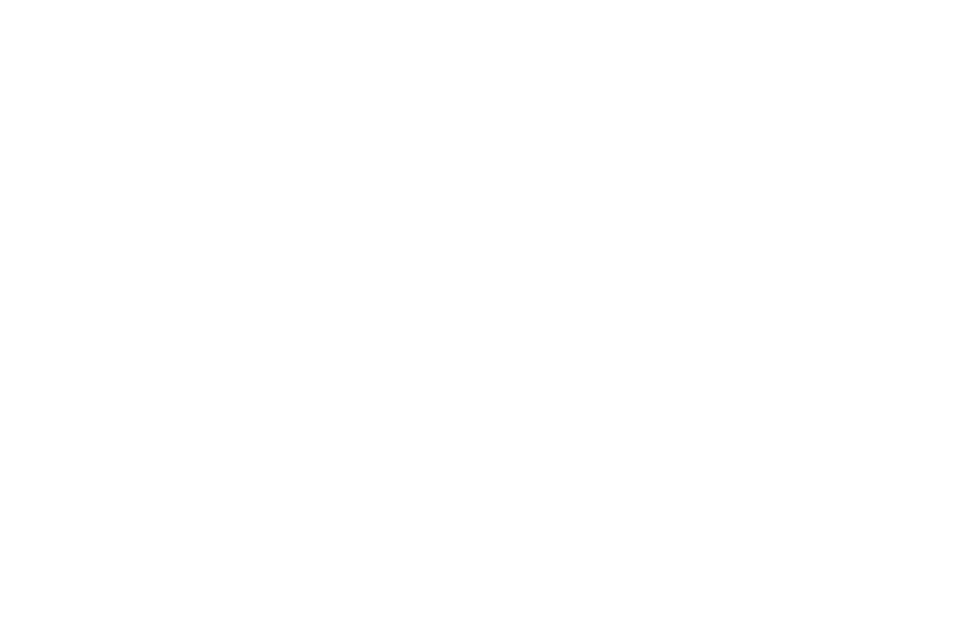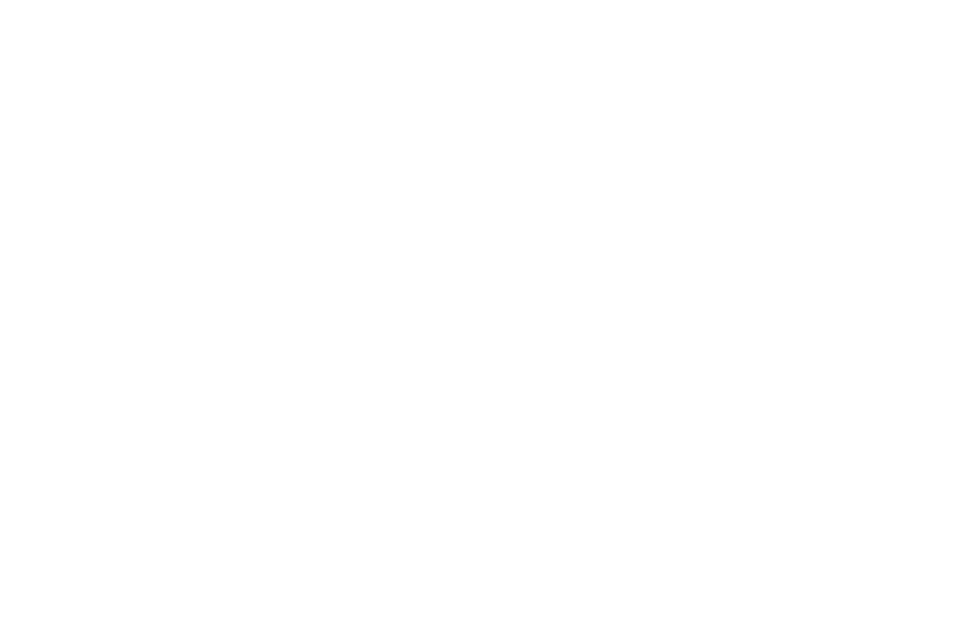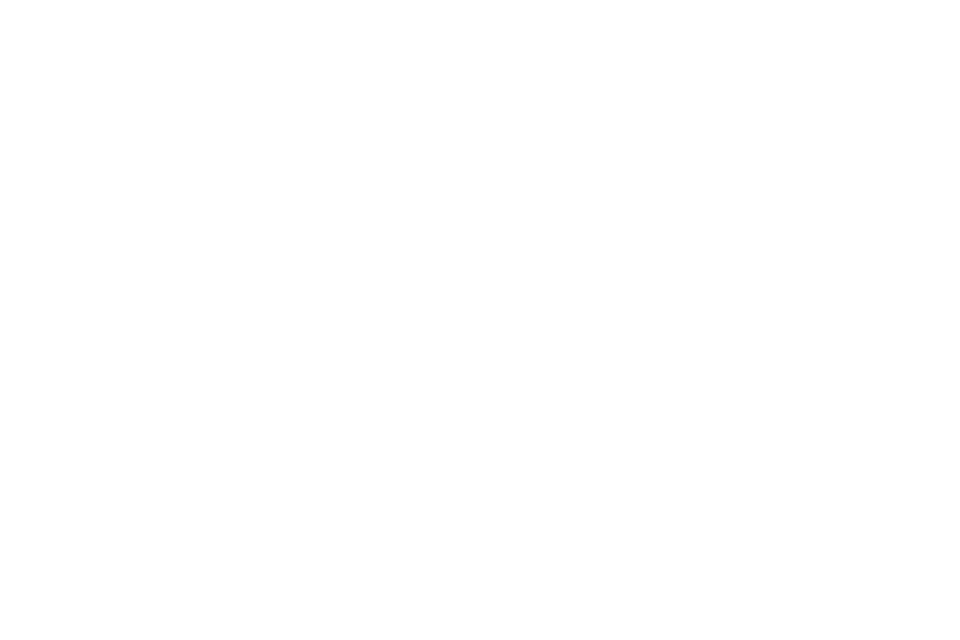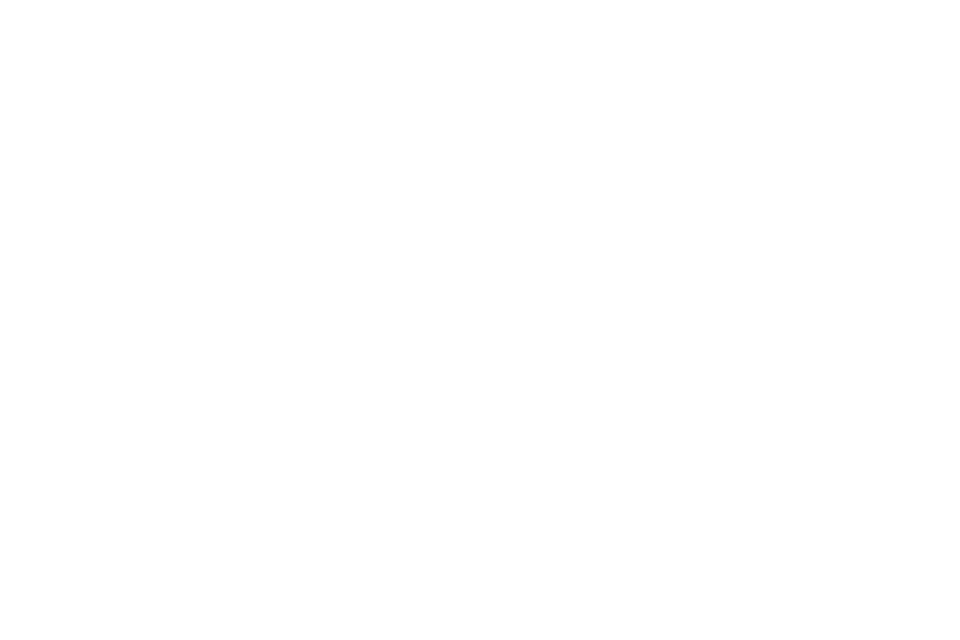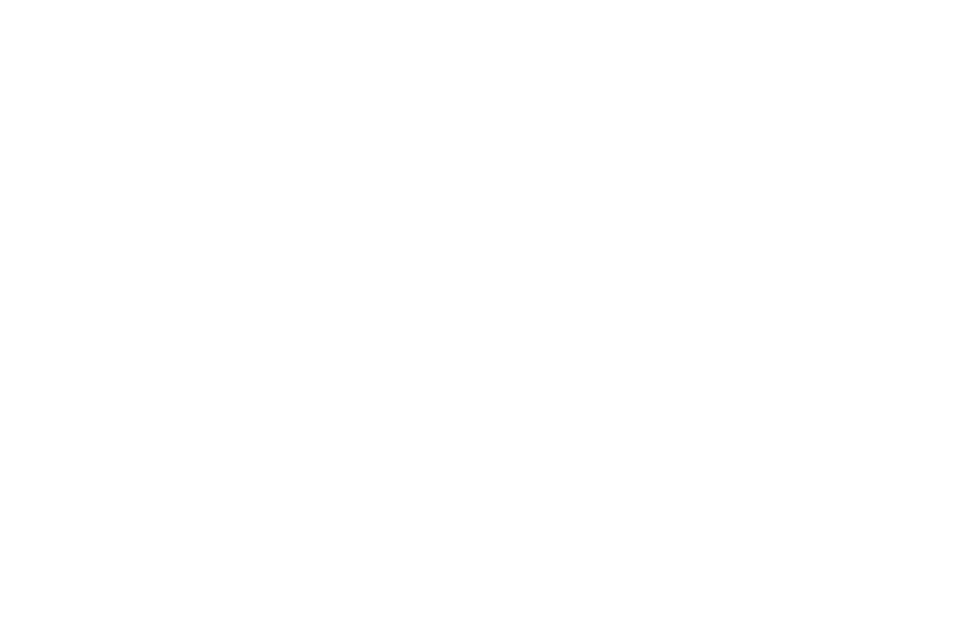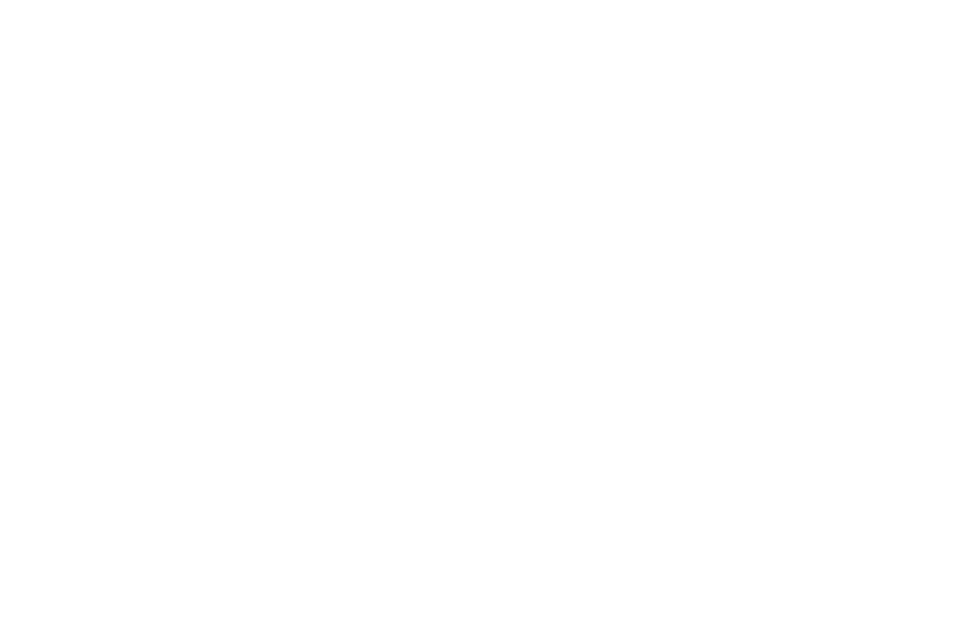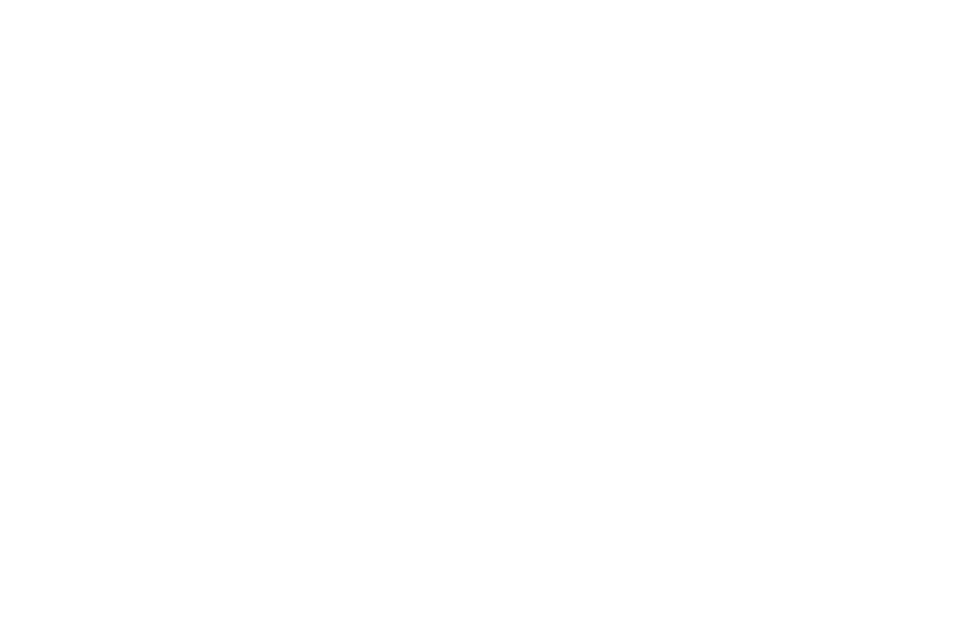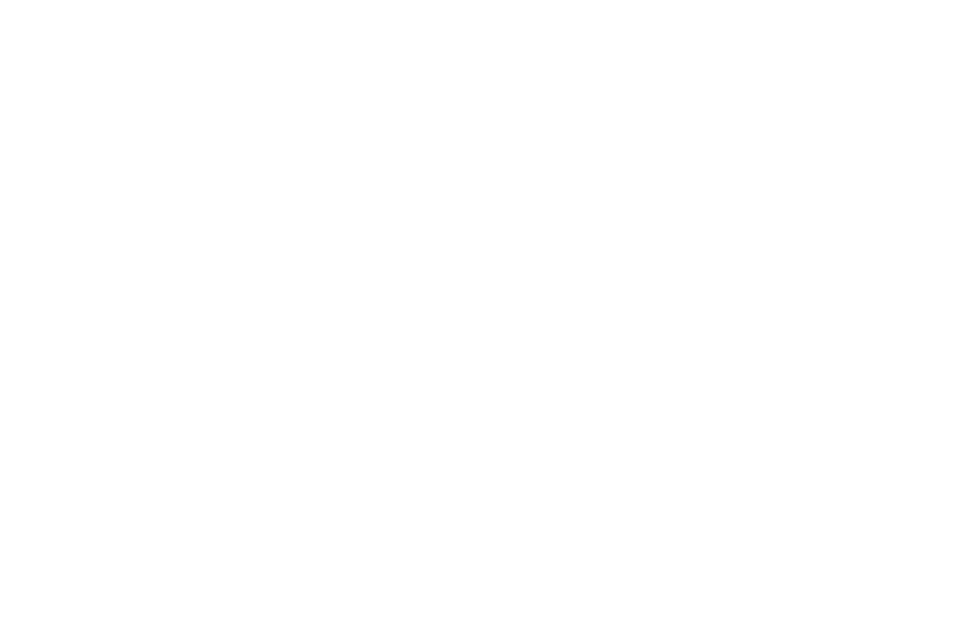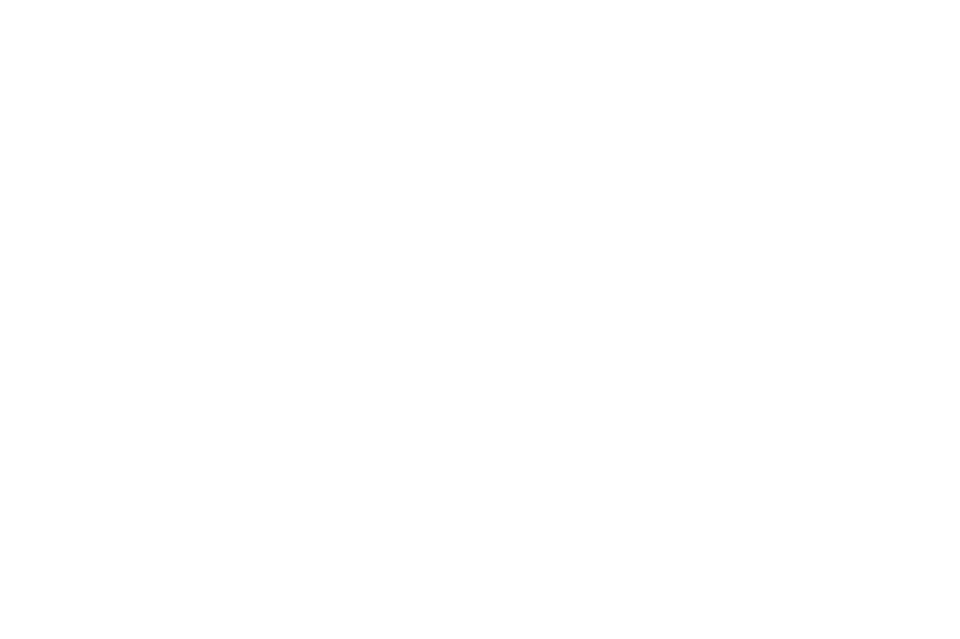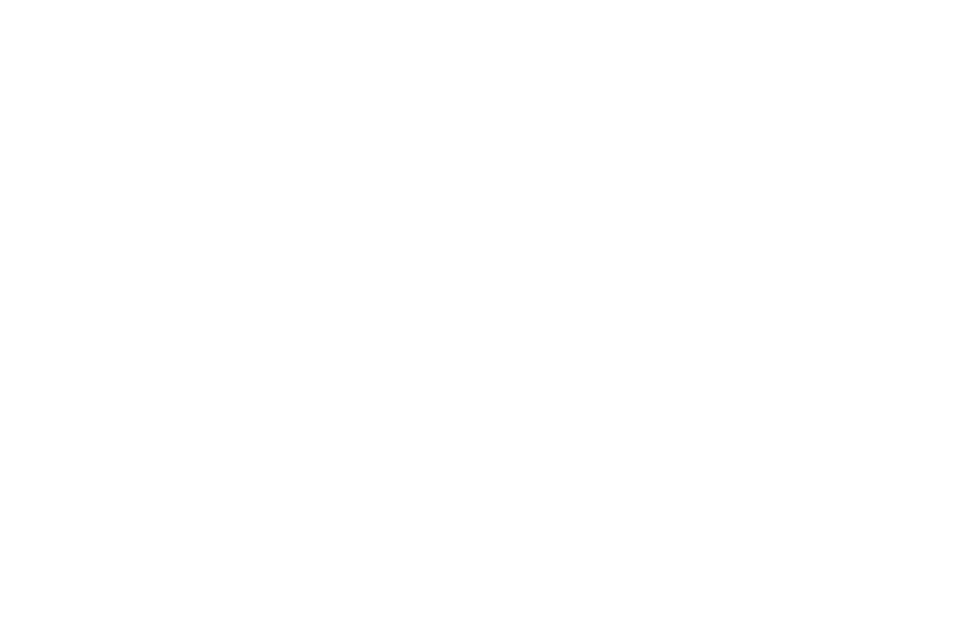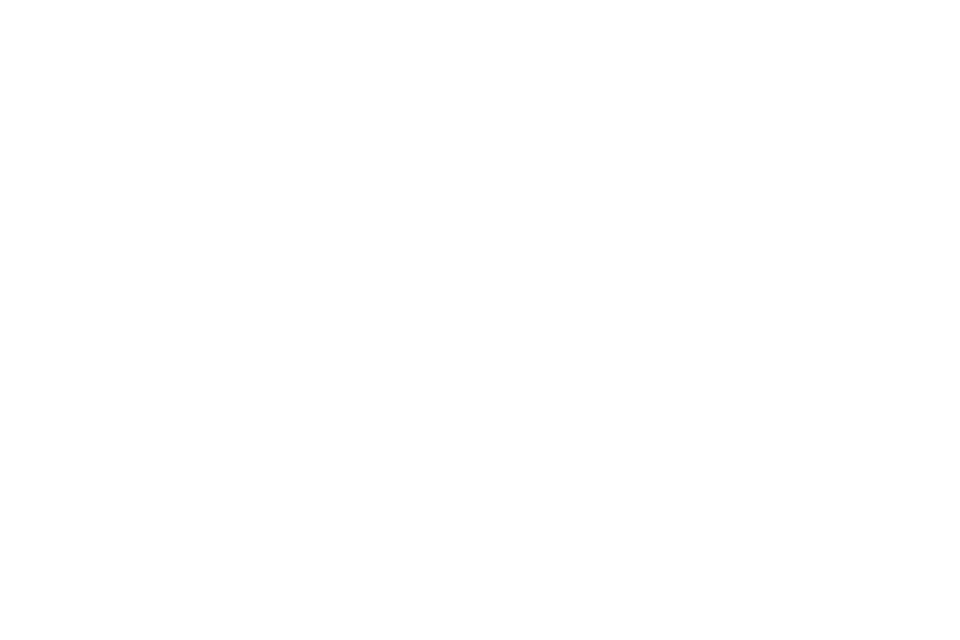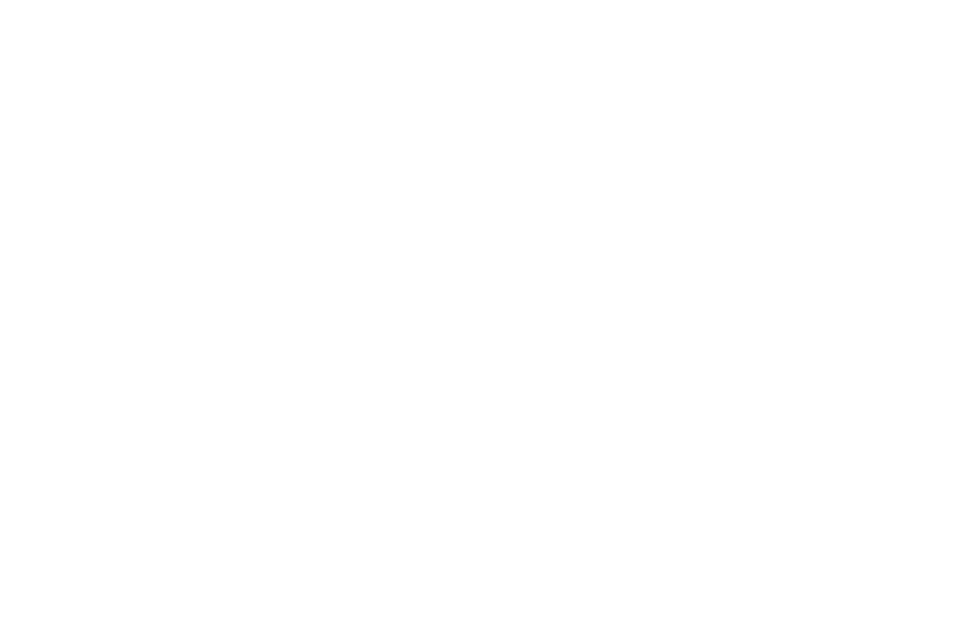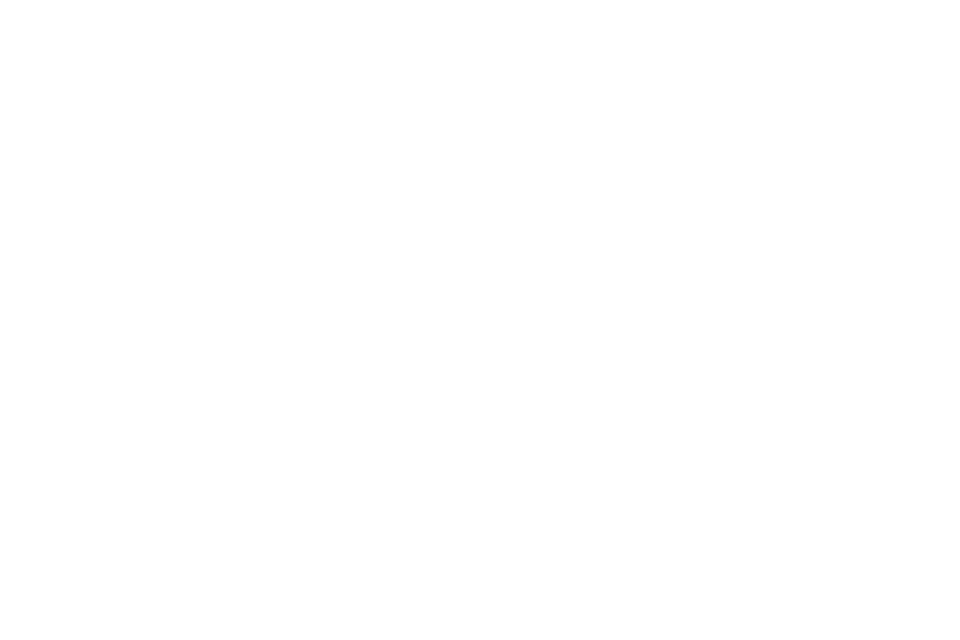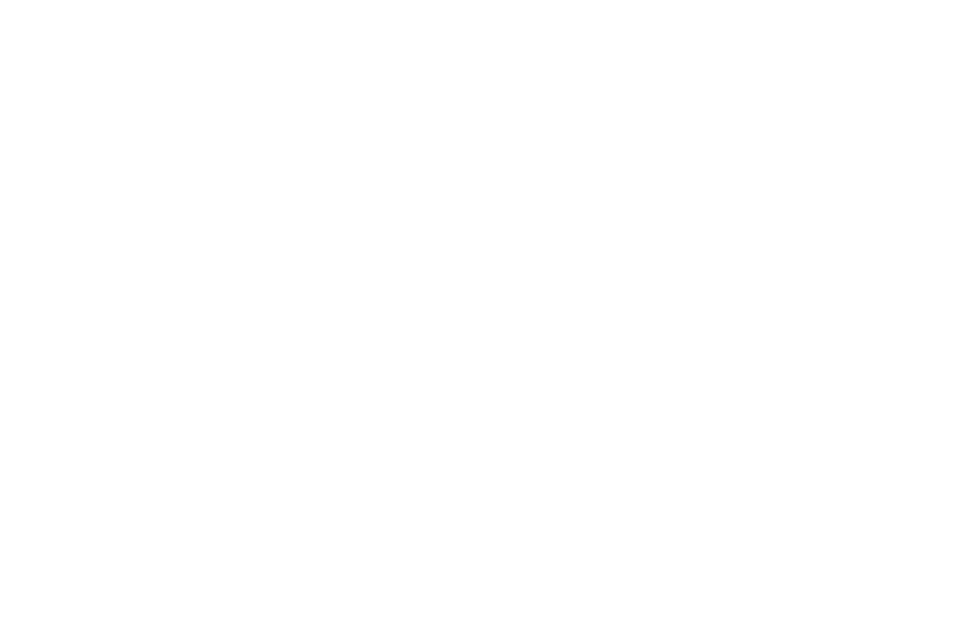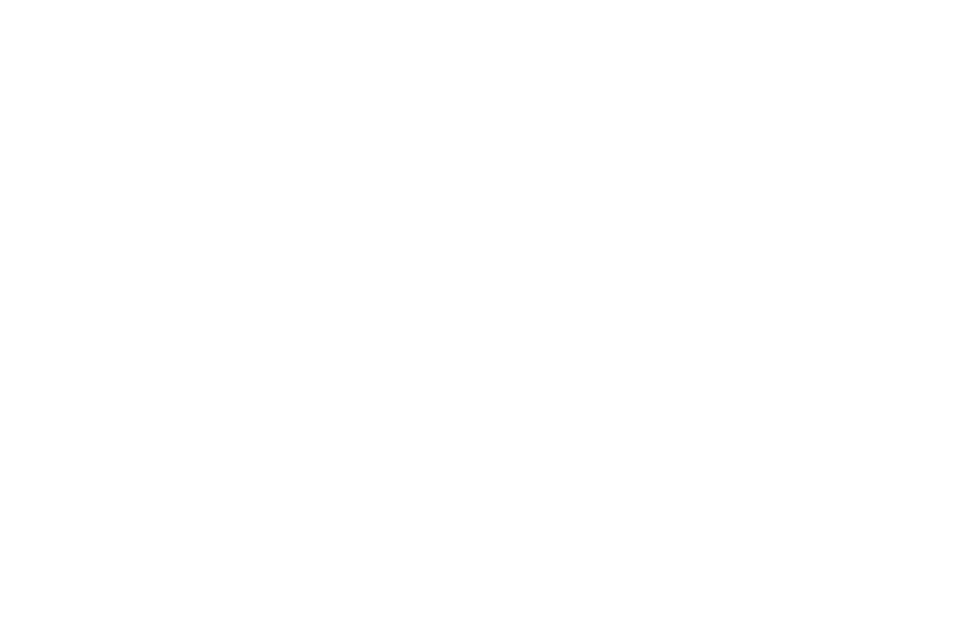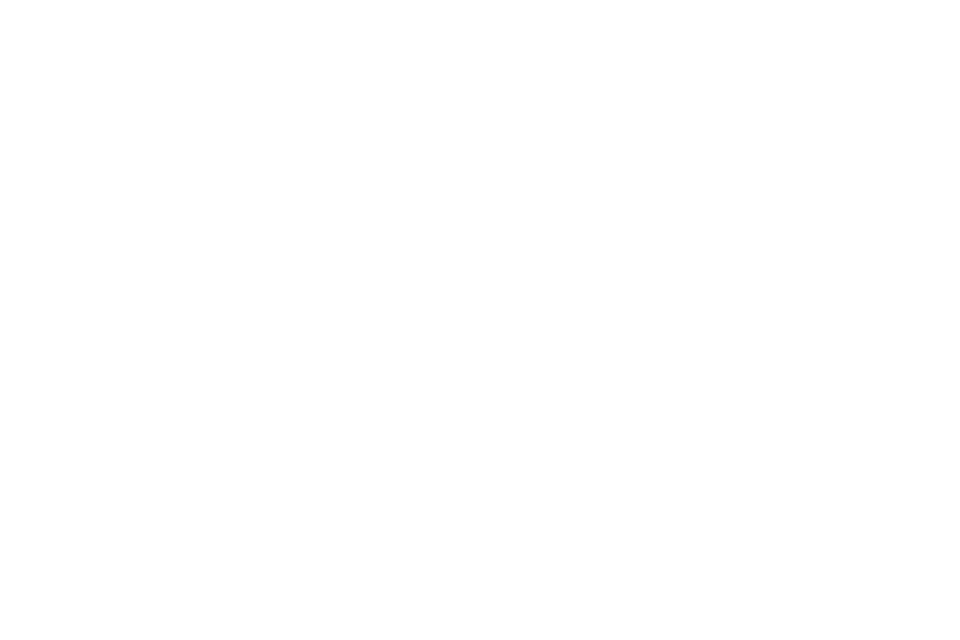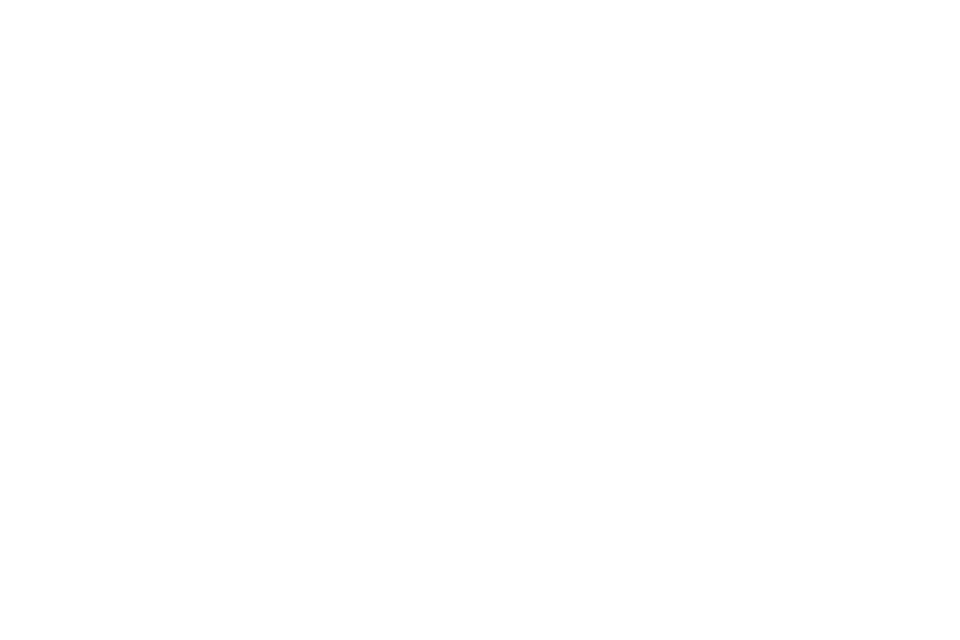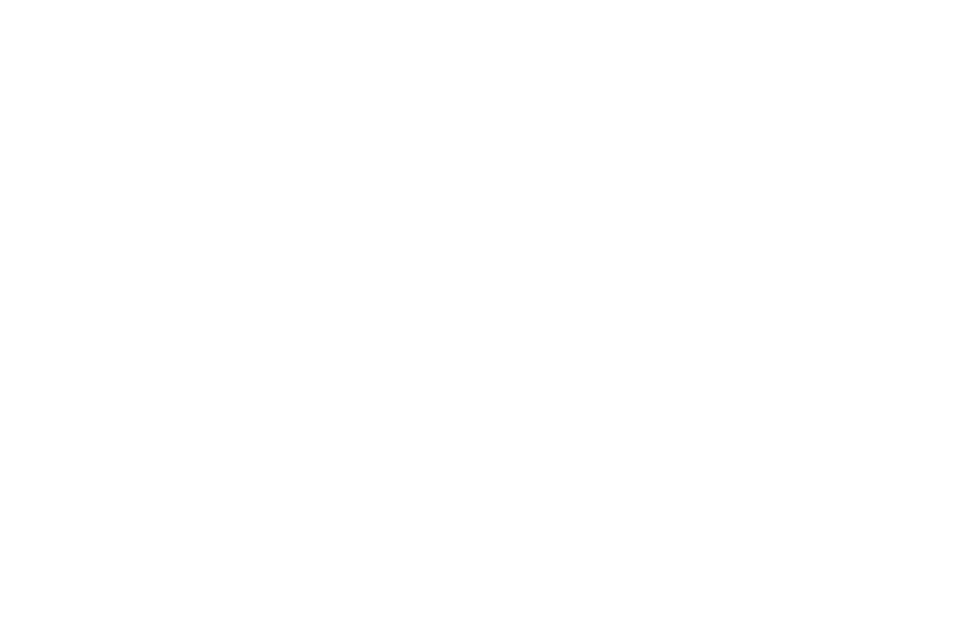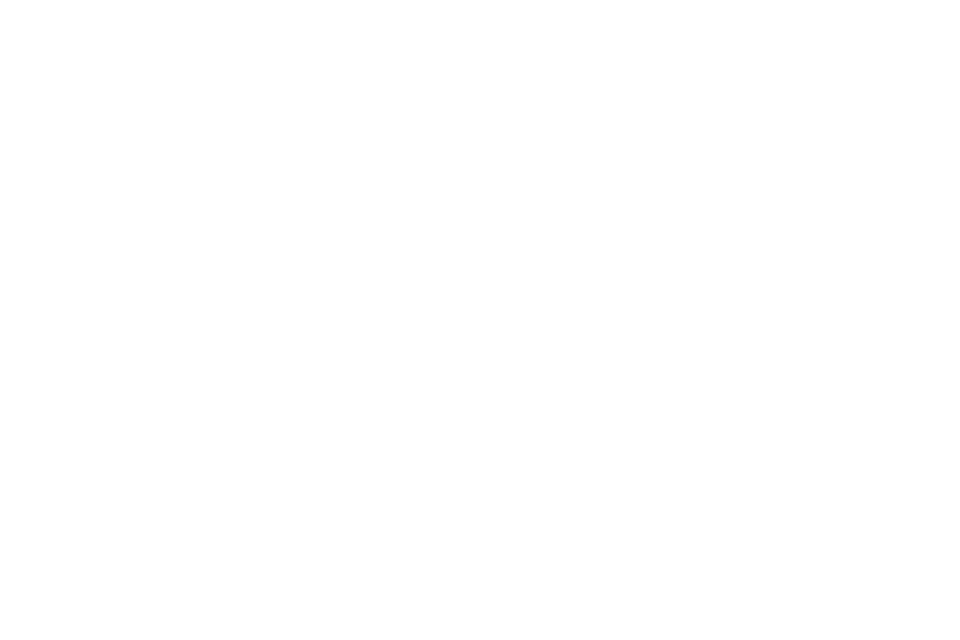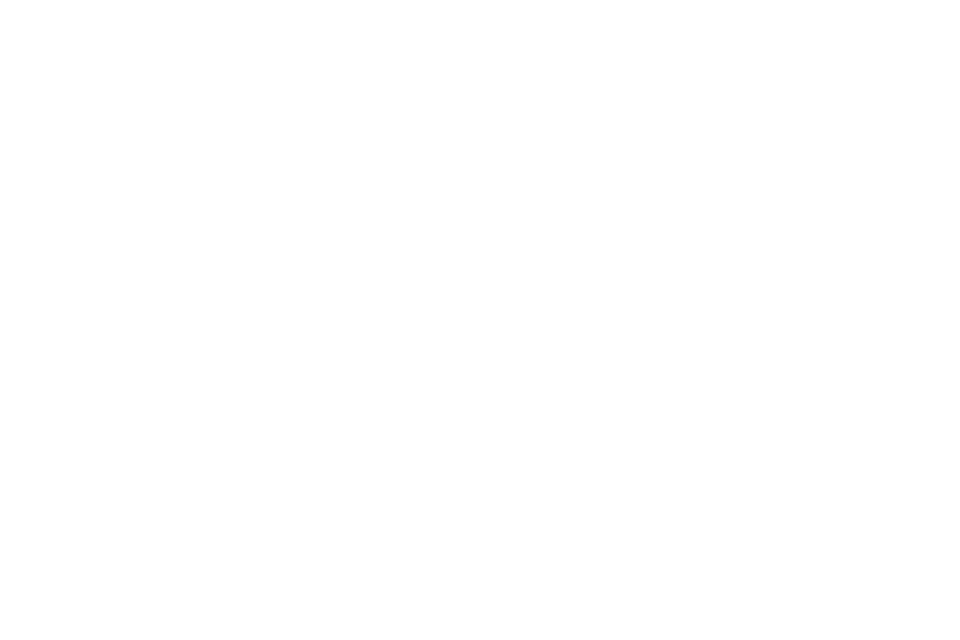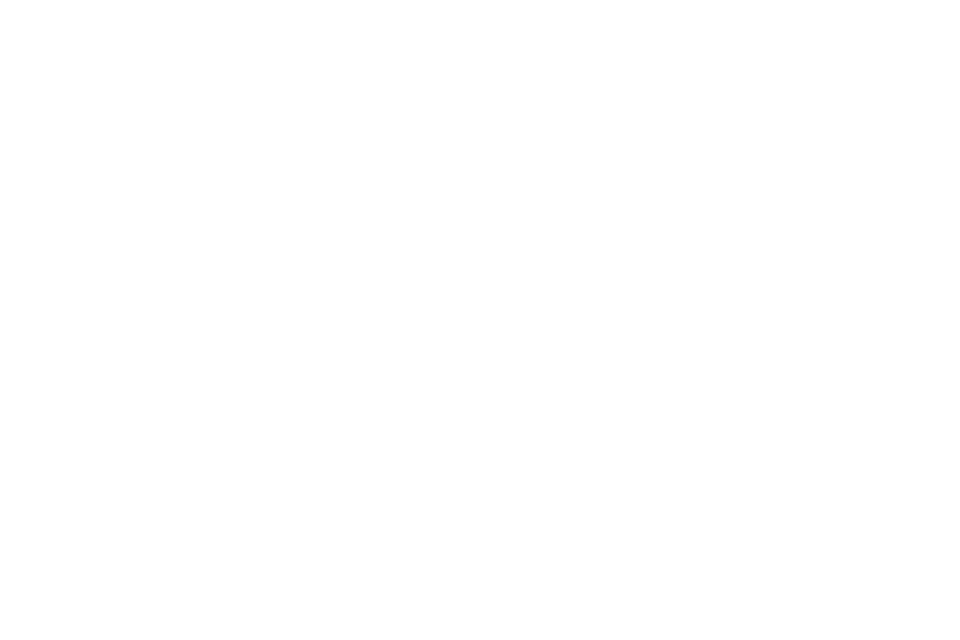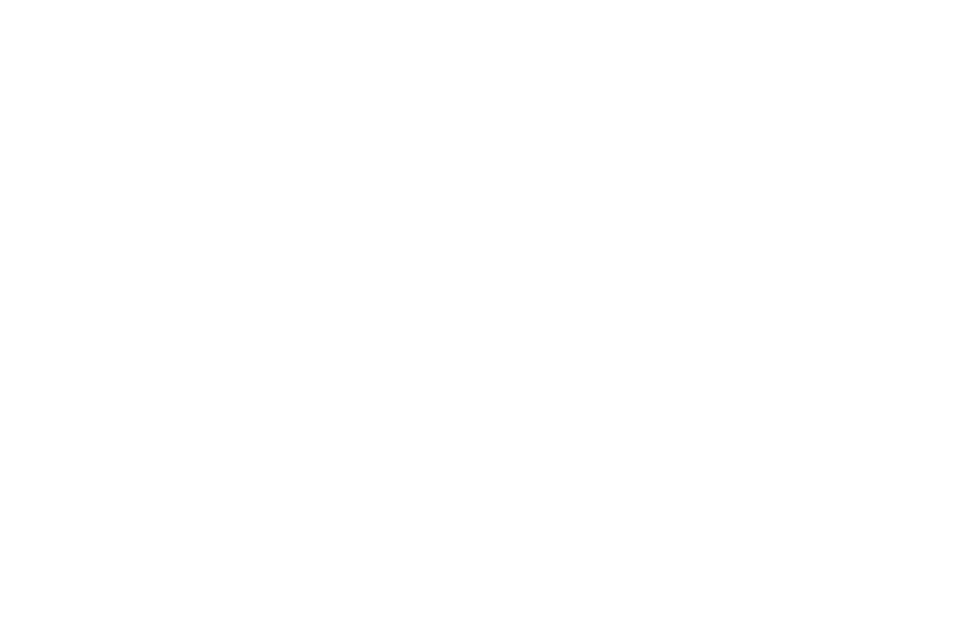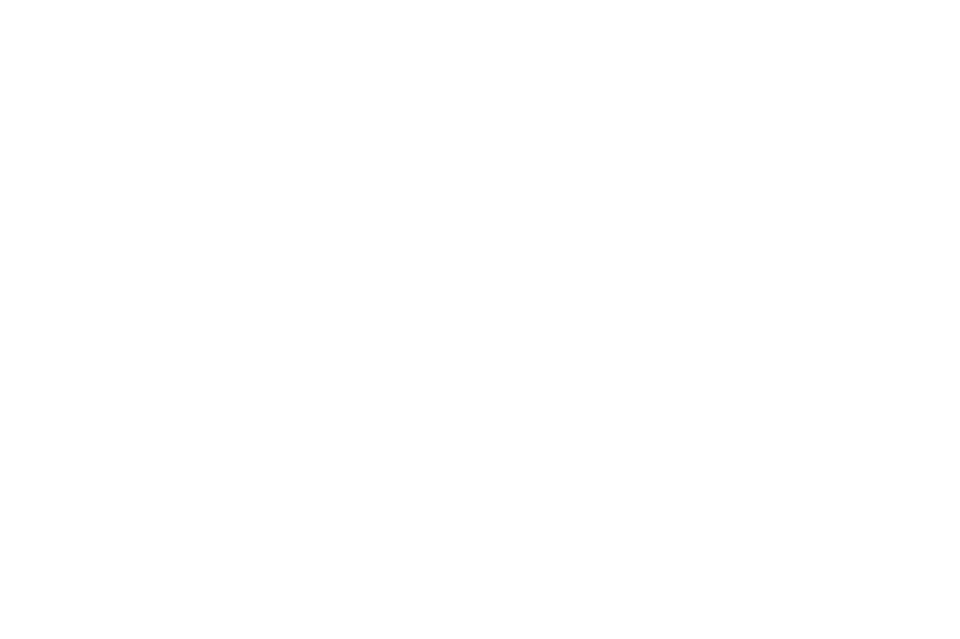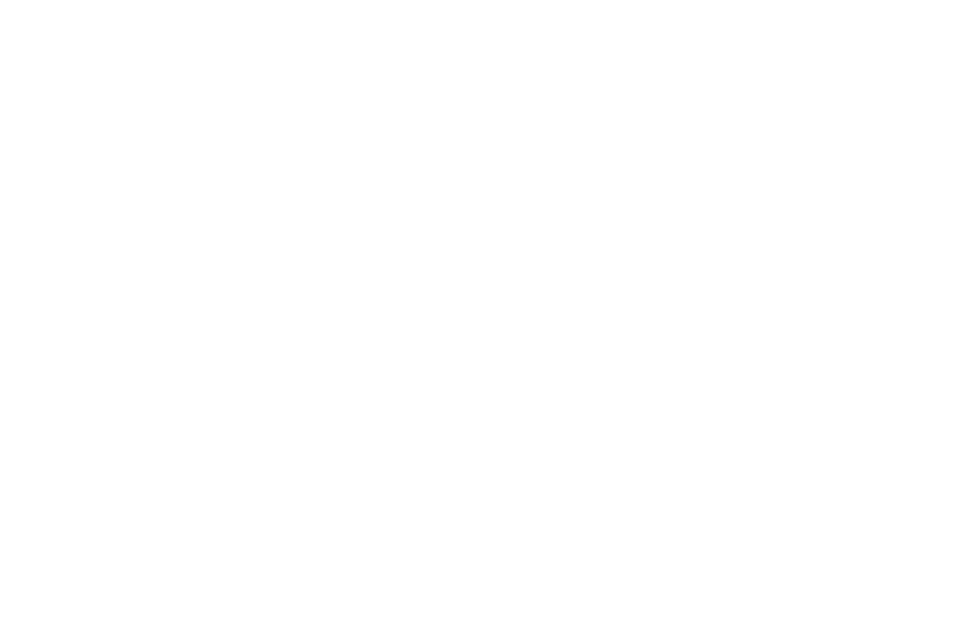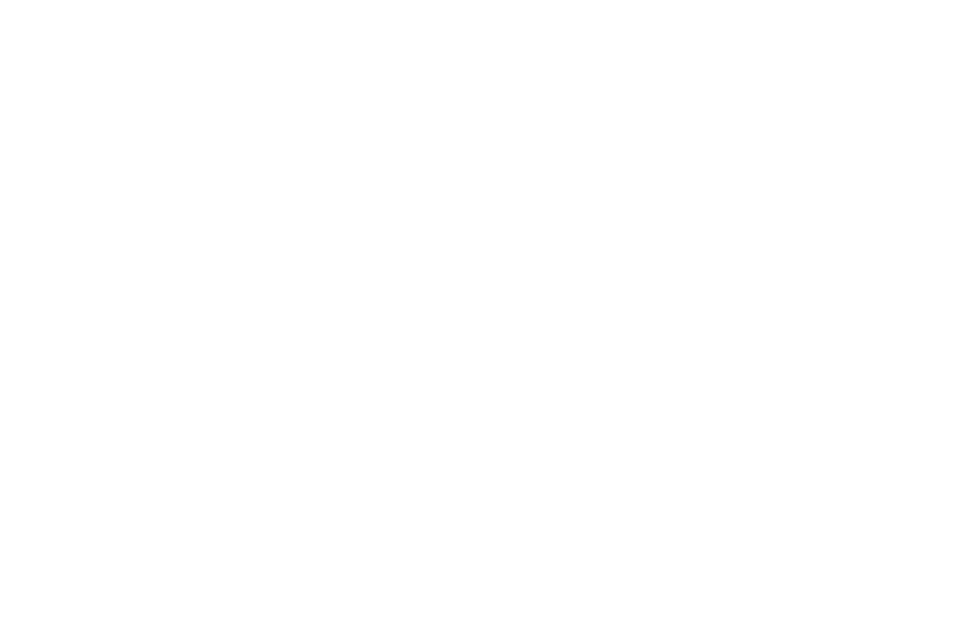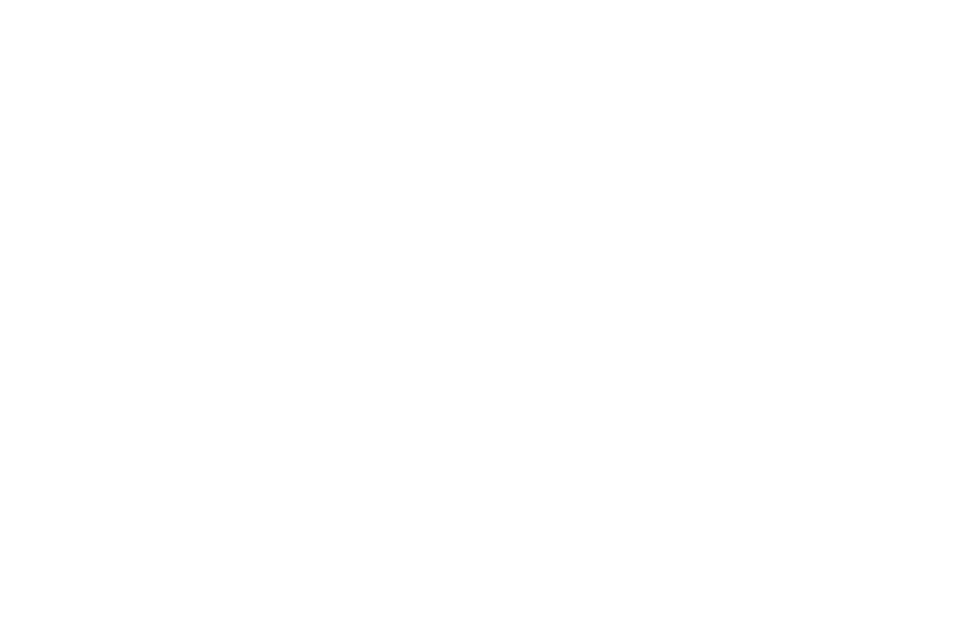УРОК РИСОВАНИЯ
Групповая выставка
15.06 – 27.07.2018
15.06 – 27.07.2018
Графика всегда была визитной карточкой русской культуры, подобно, скажем, балету. Это сравнение не так уж и банально. В рисунке и в балете есть некие общие внутренние категории исполнительски-цензового порядка. Есть и понятие коллективного тела: наличие некой системности, дисциплины реализации. То есть канона. Или отступления от канона. Графика, как и балет, в самые трудные времена «вытягивала» нашу культуру. Иногда простой традиционностью: пока есть верность канону, авось лихая да вывезет. Иногда – как раз нарушением уровней и правил: тогда графика приобретала актуальность, выходившую за рамки собственного автономного бытия. Правда, отказ от ценза часто бывал вовсе не революционным: просто цеховая культура падала, традиция вырождалась.
Настоящая выставка задумана как раз с целью рефлексии современного состояния рисунка. Что-то ушло, это понятно. То, что нарождается – что это такое? Продолжение? Деградация? Новое качество? Посмотрим.
Определенный пласт рисовальной традиции представляют три художника, сформировавшихся в 1950-е: старший – Давид Боровский, и два сверстника, чуть помоложе – Борис Власов и Александр Сколозубов. Не забудем заключить слово традиция в мысленные кавычки: эти художники репрезентируют, скорее, обновление традиции. Что, собственно, эта традиция собой представляла? В основе лежала культура академического постановочного рисунка. Она была в уже первое десятилетие века подпитана энергетикой рисования Б. Григорьева, Д. Кардовского и Яковлева-Шухаева. Несколько затушеванная арт-практикой авангарда в его аналитическом и экспрессионистском изводах, она существовала с ним достаточно равноправно. В середине 30-х гг. она была изрядно высушена требованиями соцреализма, сочетавшими миметическое (отражение жизни) и идеальное (приоритет должествования над реальностью). Вот такую версию традиции приходилось преодолевать этому поколению. Д. Боровский застал её самую тяжелую форму: соцреализм и академизм в послевоенное десятилетие слились неразличимо. Правда, ему помогал учитель, К.И. Рудаков, развивавший григорьевскую линию, сочетавший твердое обобщение и почти гротесковую остроту. Зрителю будет любопытно проследить путь освобождения от академической штудийности: постоянной работой на натуре, постепенным освобождением от документирующей доказательности (во многом, благодаря рисункам Пикассо и Матисса, поразившим художников этого поколения полным отсутствием предвзятости в виде правил, стилевых установок и пр.). Особенно поучительны ню и пляжные сценки Боровского: предельно обобщенные, они удивительно органично «ухвачены» в плане типажа, позы, жеста.
Власов и Сколозубов были в чуть более выгодном положении, чем Боровский. И академизм, на котором они воспитывались, был уже не такой кондовый, как в первые послевоенные годы, кроме того, у них была отдушина: сообщество своих (термин сегодняшних социологов), в котором главным авторитетом был В. Лебедев. Отец советской детской иллюстрированной книги, он не раз подвергался остракизму со стороны официоза. Однако в круге старших, к которым принадлежали родители Власова, он был непререкаемым авторитетом.
Для Власова и Сколозубова (они дружили с юности и развивались в некой взаимосвязи) традиция представала в более разветвленном, сложном виде – как традиция В. Лебедева, большей частью периода его рисунков плотницким карандашом и более поздних ню, обогащенная рисовальным опытом Пикассо, от периода аналитического кубизма до энгровского этапа, может быть, Сегонзака и Дюфи. При этом бэкграунд – академический рисунок – продолжал ощущаться.
Уже в 60-е, во многом благодаря Власову и Сколозубову, в Ленинграде за десять с небольшим лет был создан современный рисуночный стиль, энергичный, адекватный надеждам на обновление жизни, претворивший многообразные импульсы модернистского толка, вполне свободный от идеологических и дидактических обременений предшествующего периода.
В нем был класс, безусловная маэстрия, тот высочайший отточенный, даже, может быть, вызывающий профессионализм. И вместе с тем, как оборотная сторона медали, некоторый холодок. Пожалуй, художники сами ощущали его и старались преодолеть. Для настоящей выставки мы постарались отобрать как безупречные образцы этого рисуночного стиля, так и листы, в которых меньше формульности, ощущения недрогнувшей руки. А больше непосредственности, может, неуверенности, удивления, смятения чувств.
Формульный стиль ленинградского рисования в творчестве Власова и Сколозубова достигает своего пика. В дальнейшем дело пошло на снижение.
На какой-то, достаточно большой период, описанный выше извод рисуночного стиля отошел в историю, в музей. Пожалуй, тому были причины. Дело не в том, что институционально эти художники принадлежали к официальному искусству, а не к андеграунду (андеграунд как таковой вовсе не был по определению «прогрессивнее»: нет, и там хватало традиционализма, причем зачастую не такой высокой пробы). Просто ревнители модернистской культуры не могли принять в свою систему искусствопонимания интерес к низкому и отсутствие интереса к Высокому — в коннотациях стиля, традиции, формальной реализации (мастерства, эстетизма).
Вместе с тем первые шаги актуального рисунка 1960-х связаны как раз с отказа представлений о «формальном», в пользу повседневного, низкого, и пр. Актуальным, пусть с некоторым опозданием, становилось рисование таких «внецензовых» художников как, скажем, А. Арефьев.
Прошло несколько десятилетий, понятие формально-цензового вообще ушло из словаря современного искусства. Это не мудрено: что там Арефьев, когда два десятилетия рисование вообще развивалось под знаком текстуальности, изживался, за счёт артикуляции концептуального, изобразительно-материальный план как таковой.
Естественно, как мне представляется, возвращение интереса к арт-практике художников, персонифицирующих авторский и вместе с тем конвенциональный в понимании качества визуальности рисуночный стиль, закономерно.
Леонид Цхэ учился и преподает в институции, призванной поддерживать цензовое, «формалистическое» (этот термин долгие годы был идеологизирован и негативизирован, мы берем его в изначальной содержательности) рисование: на графическом факультете Института им. Репина, в вблизи последних героев традиции – Андрея Пахомова, А. Андреева, кое-кого ещё. Результат такого рисования дистанцирован от натурного импульса целым рядом опосредований. Думаю, в этой процедуре Цхэ более всего не устраивает недостача телесного, двигательно-жестового. Всё это ущемлено в правах навыками поставленной руки. Разумеется, не один Цхэ испытывает эту недостачу физиологического, даже, пожалуй, антропологического. Но у него своя история оздоровления.
Цхэ подвергает критической рефлексии саму процедуру правильного рисования, в котором конечным продуктом является нечто собирательно-обобщающее. Главное тут – процесс возврата к натурному, непереваренному, непосредственному, живому. Цхэ совершает обратную обобщающему рисованию процедуру. Он отматывает впечатления назад. Возвращается в реальность.
Эта реальность не претворенная. Отсюда – сумбурность видения, расфокусировка, какие-то странные брызги, потеки и шероховатости. Это не знак того, что исходная реальность неряшлива и «непригодна для жилья». Это просто тактильные и оптические свидетельства её «физичности», как говаривал М. Фуко.
В рисунках Цхэ этот возврат к реальности тематизирован. Отсюда – процессуальность рисования и письма: художник показывает усилие возврата. Почти тактильную навигацию по процессу рисования-обобщения. Обратную навигацию. Возвращение. Это усилие передаётся визуально. Иногда ощутим «кончик» рисунка, за который тянет художник, как бы разматывая исходную визуальность, показывая обратную последовательность формообразования. Иногда сами изображенные фигуры растягиваются. Иногда – смазываются. Это означает, что они захвачены в процессе. В некой переходности состояния. Тематизацией временных переходов являются и изображения неких труб, емкостей-бочек и пр.
Кстати, и реальность, в которую возвращает себя и нас художник, - детская. Ну, семейная или там дружеская: дача, детство, отдых. Там свое ощущение времени. Высокого драматизма, как уже говорилось, нет. Но есть радости и обиды, есть острые реакции: не успел, не досмотрел, проиграл.
Леонид Цхэ – ведущая фигура в том явлении, которое я б назвал для себя новым питерским плохим рисованием. Никакой оценочности. Всё по-честному. Неряшливость, нетвердость, неуверенность выставлены художником напоказ, обыграны в полной мере. Но не это главное. Главное, что эти качества мотивированы какой-то персональной историей, биографичны. И потому срабатывают. Нет формульности, замкнутости в себе. Зато есть кончик, за который можно потянуть, вытягивая целое, эту самую персональную историю. И ещё неизвестно, какого она масштаба и накала. Суггестивное, заманивающее рисование.
У Александра Цикаришвили другая история. Он едва ли рефлексирует «формальность рисования», хотя бы потому, что школа (в старом понимании) у него не такая изощренная. Актуальное сегодня понятие deskilling (как бы намеренно неумело) не про него: не думаю, что со skill (опять же в старом понимании) у него дело обстоит блестяще. Он и не стесняется: фигуры у него могут анатомически «плыть», ракурсы гуляют. Кажется, его оммаж Лебедеву (есть такая вещь) – не без пародийности: дескать, вот ведь, и на десятую нет у меня вашей маэстрии, а по вчувствованию позволю себе постоять рядом (Как писал М. Светлов, «хочу подышать возле теплого тела искусства»). Действительно, для Цикаришвили важнее всего – атмосферность. Вообще-то понятие состояние у нас как-то вышло из обихода. Похоже, он делает ставку именно на восполнение этой утраты: он добивается – неряшливыми, часто приблизительными, часто- случайными на первый взгляд, средствами, но - состояний. Но - добивается, пусть эти состояния депрессивные, кинематографически-сгущенные на ровном месте, душевно и технически (он как будто окурок окунает в краску, впрочем, так правил рисунок и К.И. Рудаков) не прибранные. У него есть ресурс развития.
Маша Ша, кажется, моложе всех, но она сразу привлекла внимание каким-то беззащитным нежеланием рисовать «по-человечески». Вроде и не концепт, не головное. Но и не «отражающее реальность» Такое синусоидное рисование большими цветными линиями можно было бы оправдать апелляцией к бумажной ленте какого-то медицинского аппарата, фиксирующей дыхание или там сердцебиение. Но, похоже, никаких аналогий нет. Есть полное доверие руке, автоматизму, подсознательному. Постепенно этот план визуализируется: появляется какие-то символы телесного, далекий и. может, что-то разорванно-архетипическое, напоминающее случайный след декадентских эротических рисунков времен сецессии.
Одно понятно: у Маши Ша редкий дар визуализации. Его можно назвать даром символико-биологического рисования. А можно – особой чуткостью, способностью прислушиваться к малейшим проявлениям жизни сознания (или организма). Во всяком случае, органика здесь играет главную роль.
Рисование поколения, выступившего лет шестьдесят тому назад, мы сталкиваем с арт-практикой молодых художников. «Старикам» вряд ли бы понравились опусы молодежи. Но и она, правду сказать, на роль внуков и вообще наследников не претендует. Но художников никто не спрашивает. Выставки на то и делают, чтобы новые смыслы возникали как бы сами по себе. Чтобы искра пробивала расстояние.
Настоящая выставка задумана как раз с целью рефлексии современного состояния рисунка. Что-то ушло, это понятно. То, что нарождается – что это такое? Продолжение? Деградация? Новое качество? Посмотрим.
Определенный пласт рисовальной традиции представляют три художника, сформировавшихся в 1950-е: старший – Давид Боровский, и два сверстника, чуть помоложе – Борис Власов и Александр Сколозубов. Не забудем заключить слово традиция в мысленные кавычки: эти художники репрезентируют, скорее, обновление традиции. Что, собственно, эта традиция собой представляла? В основе лежала культура академического постановочного рисунка. Она была в уже первое десятилетие века подпитана энергетикой рисования Б. Григорьева, Д. Кардовского и Яковлева-Шухаева. Несколько затушеванная арт-практикой авангарда в его аналитическом и экспрессионистском изводах, она существовала с ним достаточно равноправно. В середине 30-х гг. она была изрядно высушена требованиями соцреализма, сочетавшими миметическое (отражение жизни) и идеальное (приоритет должествования над реальностью). Вот такую версию традиции приходилось преодолевать этому поколению. Д. Боровский застал её самую тяжелую форму: соцреализм и академизм в послевоенное десятилетие слились неразличимо. Правда, ему помогал учитель, К.И. Рудаков, развивавший григорьевскую линию, сочетавший твердое обобщение и почти гротесковую остроту. Зрителю будет любопытно проследить путь освобождения от академической штудийности: постоянной работой на натуре, постепенным освобождением от документирующей доказательности (во многом, благодаря рисункам Пикассо и Матисса, поразившим художников этого поколения полным отсутствием предвзятости в виде правил, стилевых установок и пр.). Особенно поучительны ню и пляжные сценки Боровского: предельно обобщенные, они удивительно органично «ухвачены» в плане типажа, позы, жеста.
Власов и Сколозубов были в чуть более выгодном положении, чем Боровский. И академизм, на котором они воспитывались, был уже не такой кондовый, как в первые послевоенные годы, кроме того, у них была отдушина: сообщество своих (термин сегодняшних социологов), в котором главным авторитетом был В. Лебедев. Отец советской детской иллюстрированной книги, он не раз подвергался остракизму со стороны официоза. Однако в круге старших, к которым принадлежали родители Власова, он был непререкаемым авторитетом.
Для Власова и Сколозубова (они дружили с юности и развивались в некой взаимосвязи) традиция представала в более разветвленном, сложном виде – как традиция В. Лебедева, большей частью периода его рисунков плотницким карандашом и более поздних ню, обогащенная рисовальным опытом Пикассо, от периода аналитического кубизма до энгровского этапа, может быть, Сегонзака и Дюфи. При этом бэкграунд – академический рисунок – продолжал ощущаться.
Уже в 60-е, во многом благодаря Власову и Сколозубову, в Ленинграде за десять с небольшим лет был создан современный рисуночный стиль, энергичный, адекватный надеждам на обновление жизни, претворивший многообразные импульсы модернистского толка, вполне свободный от идеологических и дидактических обременений предшествующего периода.
В нем был класс, безусловная маэстрия, тот высочайший отточенный, даже, может быть, вызывающий профессионализм. И вместе с тем, как оборотная сторона медали, некоторый холодок. Пожалуй, художники сами ощущали его и старались преодолеть. Для настоящей выставки мы постарались отобрать как безупречные образцы этого рисуночного стиля, так и листы, в которых меньше формульности, ощущения недрогнувшей руки. А больше непосредственности, может, неуверенности, удивления, смятения чувств.
Формульный стиль ленинградского рисования в творчестве Власова и Сколозубова достигает своего пика. В дальнейшем дело пошло на снижение.
На какой-то, достаточно большой период, описанный выше извод рисуночного стиля отошел в историю, в музей. Пожалуй, тому были причины. Дело не в том, что институционально эти художники принадлежали к официальному искусству, а не к андеграунду (андеграунд как таковой вовсе не был по определению «прогрессивнее»: нет, и там хватало традиционализма, причем зачастую не такой высокой пробы). Просто ревнители модернистской культуры не могли принять в свою систему искусствопонимания интерес к низкому и отсутствие интереса к Высокому — в коннотациях стиля, традиции, формальной реализации (мастерства, эстетизма).
Вместе с тем первые шаги актуального рисунка 1960-х связаны как раз с отказа представлений о «формальном», в пользу повседневного, низкого, и пр. Актуальным, пусть с некоторым опозданием, становилось рисование таких «внецензовых» художников как, скажем, А. Арефьев.
Прошло несколько десятилетий, понятие формально-цензового вообще ушло из словаря современного искусства. Это не мудрено: что там Арефьев, когда два десятилетия рисование вообще развивалось под знаком текстуальности, изживался, за счёт артикуляции концептуального, изобразительно-материальный план как таковой.
Естественно, как мне представляется, возвращение интереса к арт-практике художников, персонифицирующих авторский и вместе с тем конвенциональный в понимании качества визуальности рисуночный стиль, закономерно.
Леонид Цхэ учился и преподает в институции, призванной поддерживать цензовое, «формалистическое» (этот термин долгие годы был идеологизирован и негативизирован, мы берем его в изначальной содержательности) рисование: на графическом факультете Института им. Репина, в вблизи последних героев традиции – Андрея Пахомова, А. Андреева, кое-кого ещё. Результат такого рисования дистанцирован от натурного импульса целым рядом опосредований. Думаю, в этой процедуре Цхэ более всего не устраивает недостача телесного, двигательно-жестового. Всё это ущемлено в правах навыками поставленной руки. Разумеется, не один Цхэ испытывает эту недостачу физиологического, даже, пожалуй, антропологического. Но у него своя история оздоровления.
Цхэ подвергает критической рефлексии саму процедуру правильного рисования, в котором конечным продуктом является нечто собирательно-обобщающее. Главное тут – процесс возврата к натурному, непереваренному, непосредственному, живому. Цхэ совершает обратную обобщающему рисованию процедуру. Он отматывает впечатления назад. Возвращается в реальность.
Эта реальность не претворенная. Отсюда – сумбурность видения, расфокусировка, какие-то странные брызги, потеки и шероховатости. Это не знак того, что исходная реальность неряшлива и «непригодна для жилья». Это просто тактильные и оптические свидетельства её «физичности», как говаривал М. Фуко.
В рисунках Цхэ этот возврат к реальности тематизирован. Отсюда – процессуальность рисования и письма: художник показывает усилие возврата. Почти тактильную навигацию по процессу рисования-обобщения. Обратную навигацию. Возвращение. Это усилие передаётся визуально. Иногда ощутим «кончик» рисунка, за который тянет художник, как бы разматывая исходную визуальность, показывая обратную последовательность формообразования. Иногда сами изображенные фигуры растягиваются. Иногда – смазываются. Это означает, что они захвачены в процессе. В некой переходности состояния. Тематизацией временных переходов являются и изображения неких труб, емкостей-бочек и пр.
Кстати, и реальность, в которую возвращает себя и нас художник, - детская. Ну, семейная или там дружеская: дача, детство, отдых. Там свое ощущение времени. Высокого драматизма, как уже говорилось, нет. Но есть радости и обиды, есть острые реакции: не успел, не досмотрел, проиграл.
Леонид Цхэ – ведущая фигура в том явлении, которое я б назвал для себя новым питерским плохим рисованием. Никакой оценочности. Всё по-честному. Неряшливость, нетвердость, неуверенность выставлены художником напоказ, обыграны в полной мере. Но не это главное. Главное, что эти качества мотивированы какой-то персональной историей, биографичны. И потому срабатывают. Нет формульности, замкнутости в себе. Зато есть кончик, за который можно потянуть, вытягивая целое, эту самую персональную историю. И ещё неизвестно, какого она масштаба и накала. Суггестивное, заманивающее рисование.
У Александра Цикаришвили другая история. Он едва ли рефлексирует «формальность рисования», хотя бы потому, что школа (в старом понимании) у него не такая изощренная. Актуальное сегодня понятие deskilling (как бы намеренно неумело) не про него: не думаю, что со skill (опять же в старом понимании) у него дело обстоит блестяще. Он и не стесняется: фигуры у него могут анатомически «плыть», ракурсы гуляют. Кажется, его оммаж Лебедеву (есть такая вещь) – не без пародийности: дескать, вот ведь, и на десятую нет у меня вашей маэстрии, а по вчувствованию позволю себе постоять рядом (Как писал М. Светлов, «хочу подышать возле теплого тела искусства»). Действительно, для Цикаришвили важнее всего – атмосферность. Вообще-то понятие состояние у нас как-то вышло из обихода. Похоже, он делает ставку именно на восполнение этой утраты: он добивается – неряшливыми, часто приблизительными, часто- случайными на первый взгляд, средствами, но - состояний. Но - добивается, пусть эти состояния депрессивные, кинематографически-сгущенные на ровном месте, душевно и технически (он как будто окурок окунает в краску, впрочем, так правил рисунок и К.И. Рудаков) не прибранные. У него есть ресурс развития.
Маша Ша, кажется, моложе всех, но она сразу привлекла внимание каким-то беззащитным нежеланием рисовать «по-человечески». Вроде и не концепт, не головное. Но и не «отражающее реальность» Такое синусоидное рисование большими цветными линиями можно было бы оправдать апелляцией к бумажной ленте какого-то медицинского аппарата, фиксирующей дыхание или там сердцебиение. Но, похоже, никаких аналогий нет. Есть полное доверие руке, автоматизму, подсознательному. Постепенно этот план визуализируется: появляется какие-то символы телесного, далекий и. может, что-то разорванно-архетипическое, напоминающее случайный след декадентских эротических рисунков времен сецессии.
Одно понятно: у Маши Ша редкий дар визуализации. Его можно назвать даром символико-биологического рисования. А можно – особой чуткостью, способностью прислушиваться к малейшим проявлениям жизни сознания (или организма). Во всяком случае, органика здесь играет главную роль.
Рисование поколения, выступившего лет шестьдесят тому назад, мы сталкиваем с арт-практикой молодых художников. «Старикам» вряд ли бы понравились опусы молодежи. Но и она, правду сказать, на роль внуков и вообще наследников не претендует. Но художников никто не спрашивает. Выставки на то и делают, чтобы новые смыслы возникали как бы сами по себе. Чтобы искра пробивала расстояние.
Александр Боровский