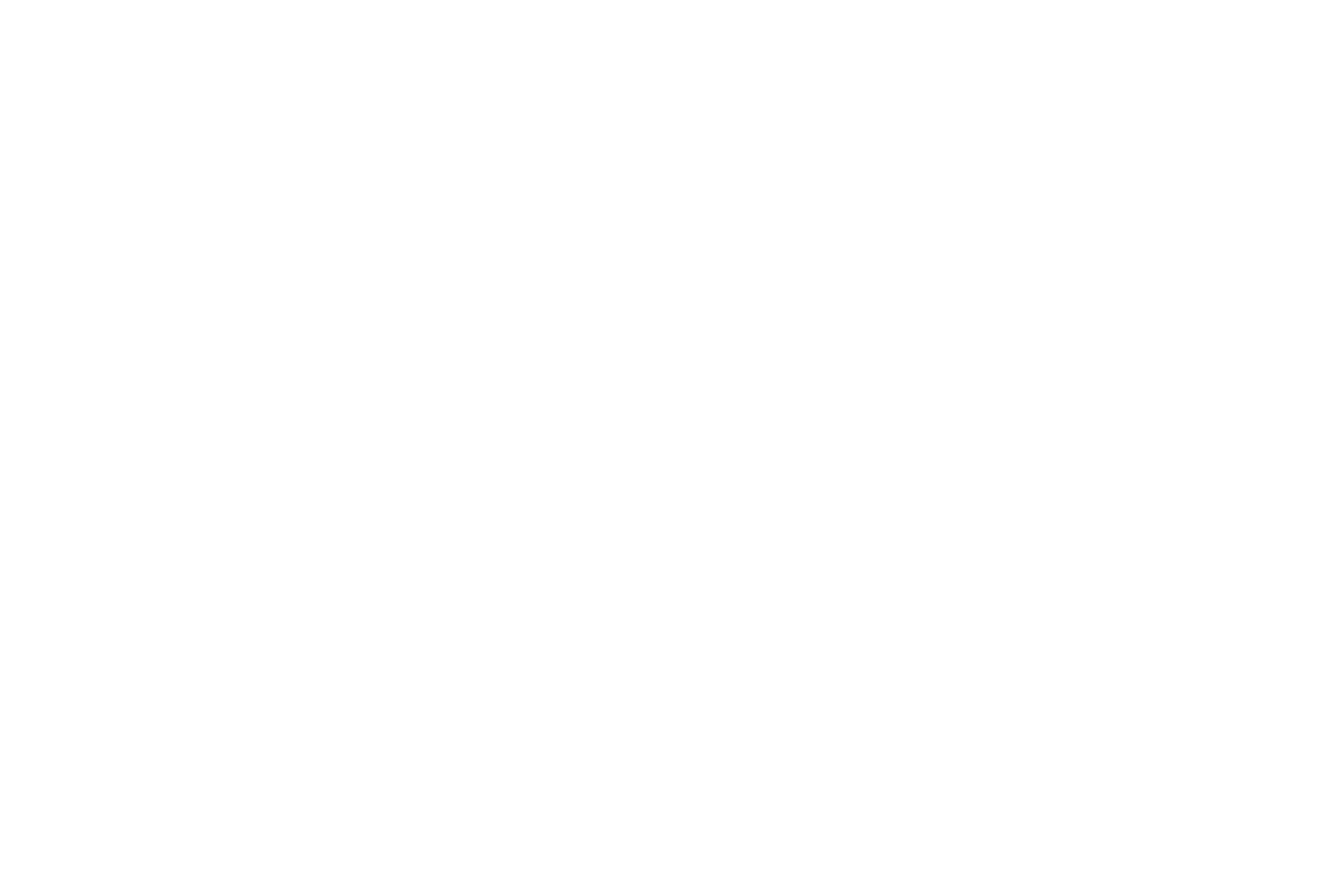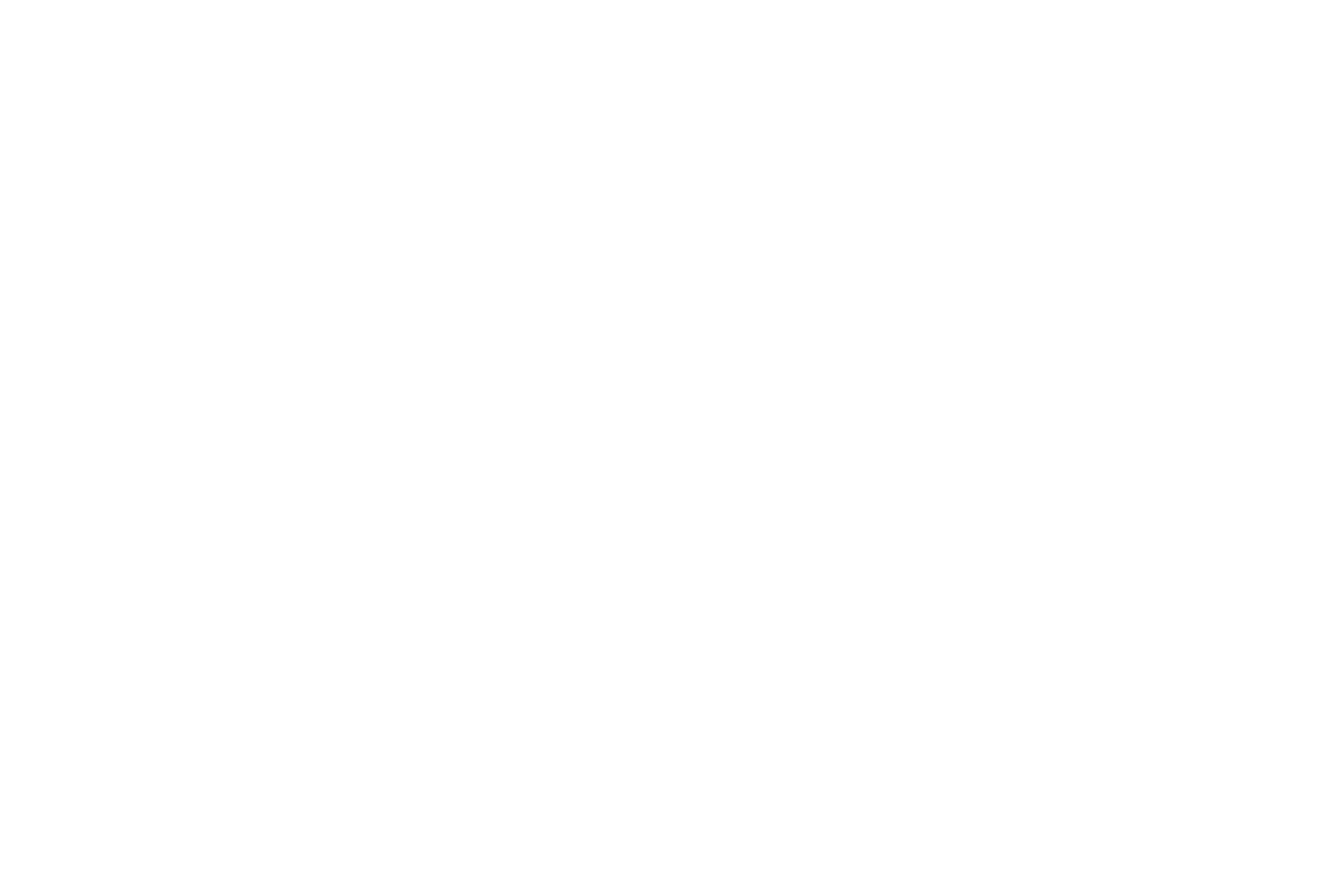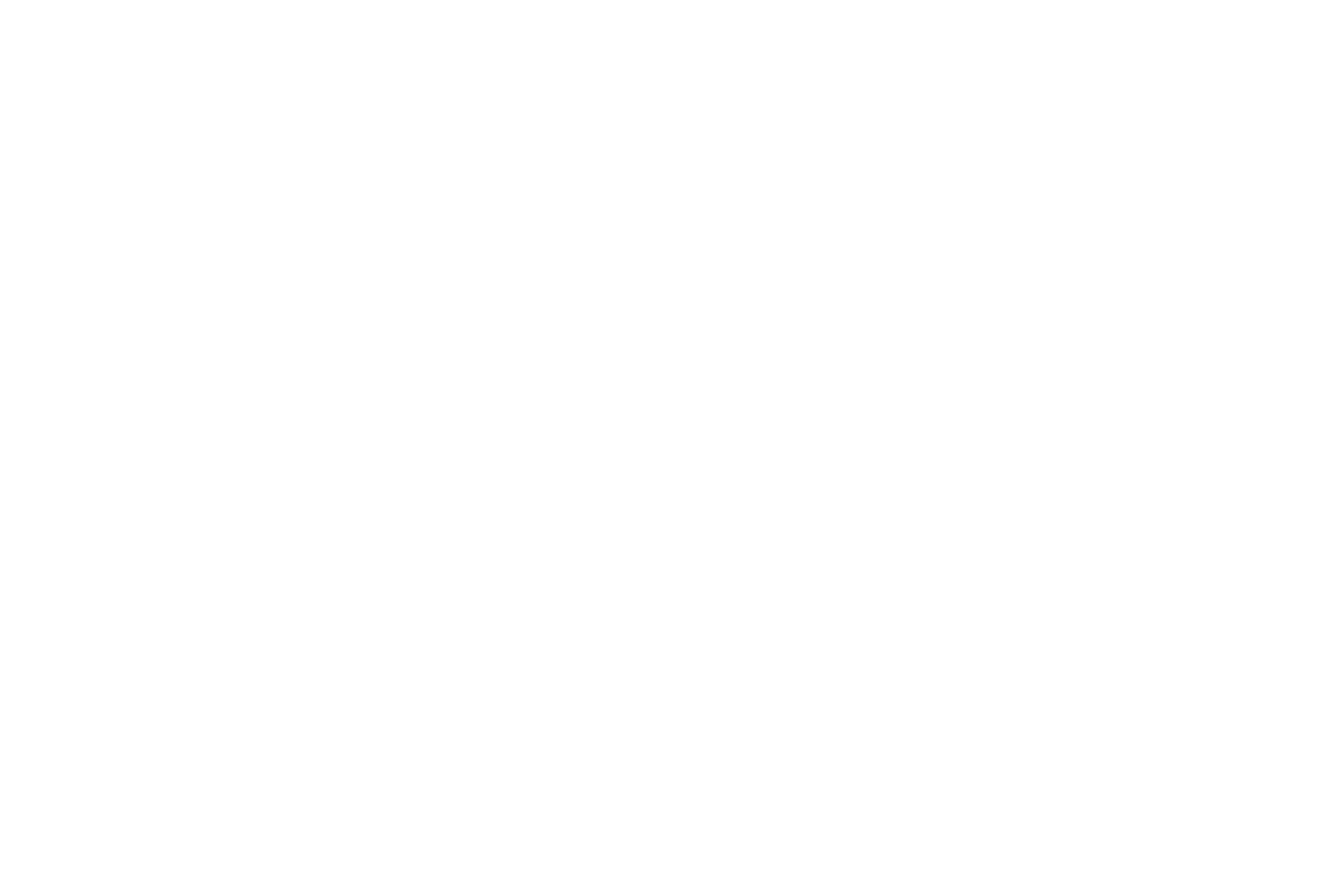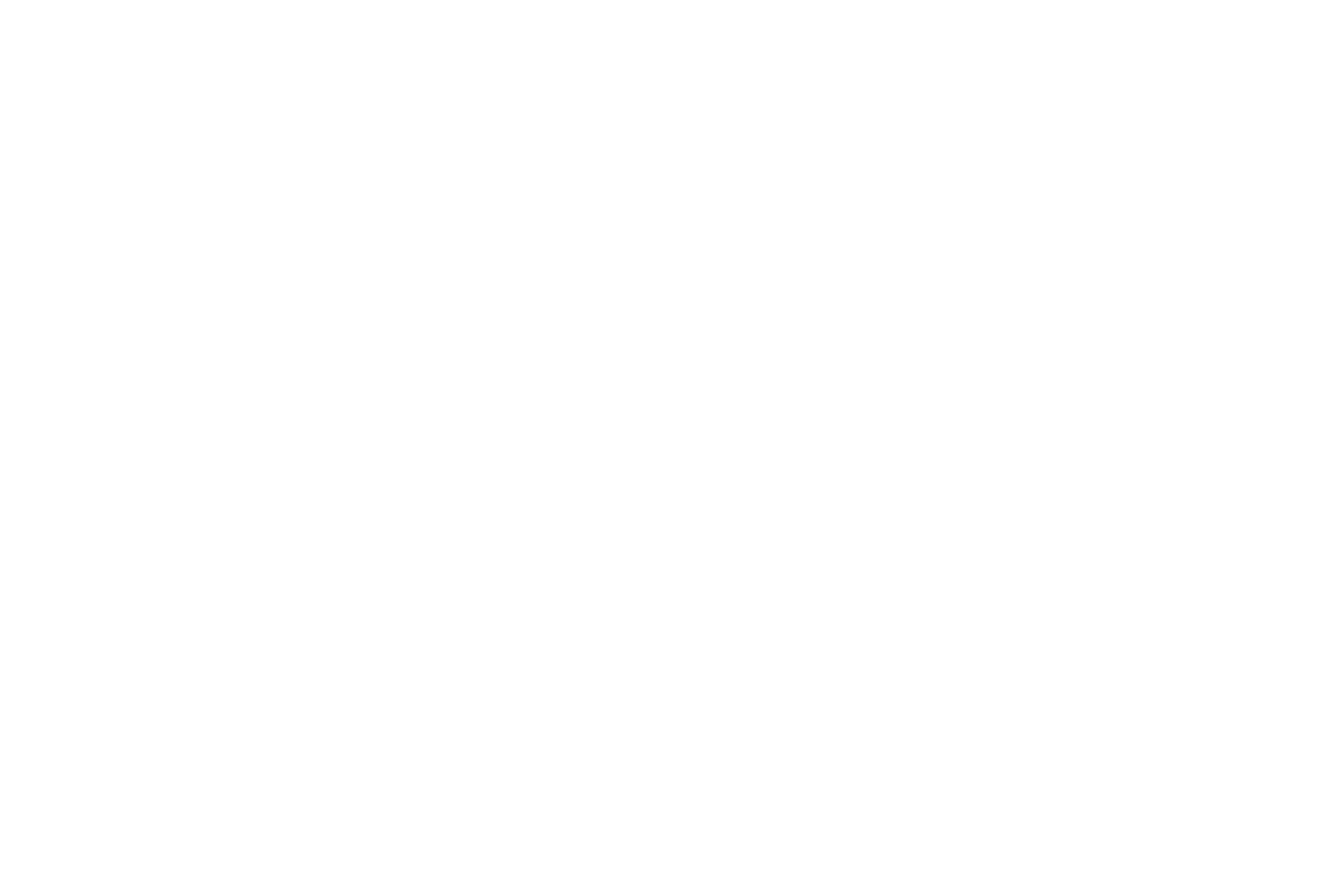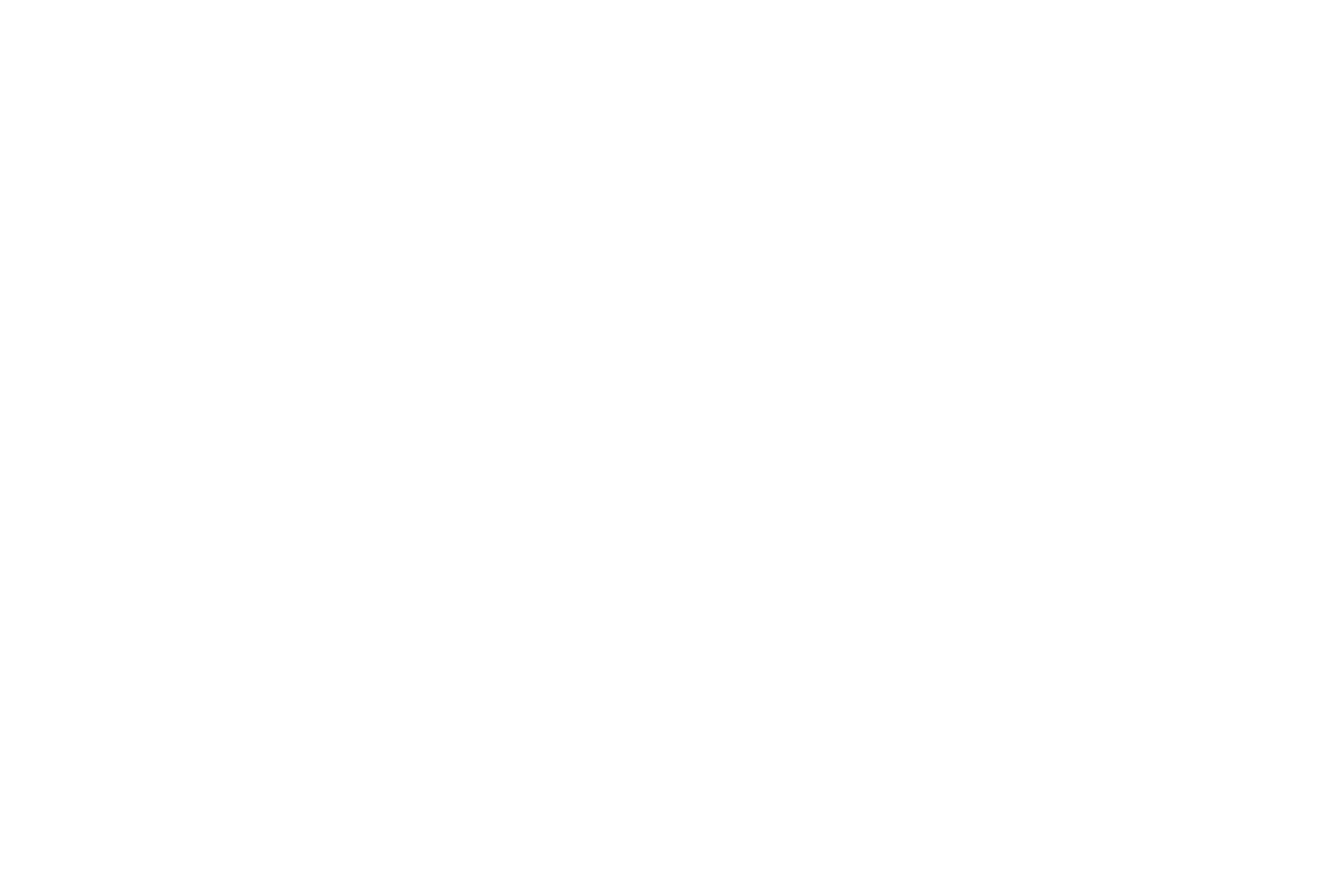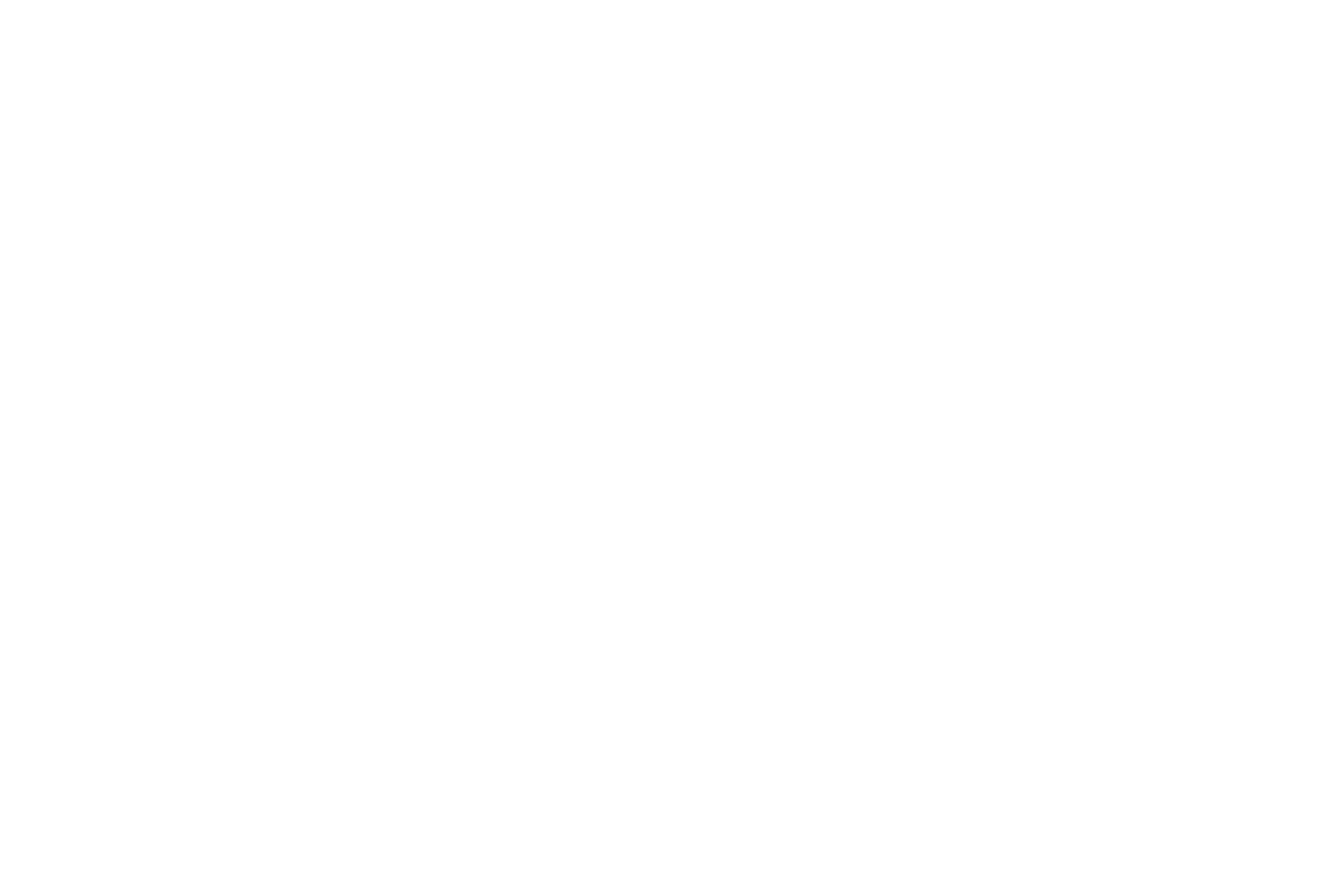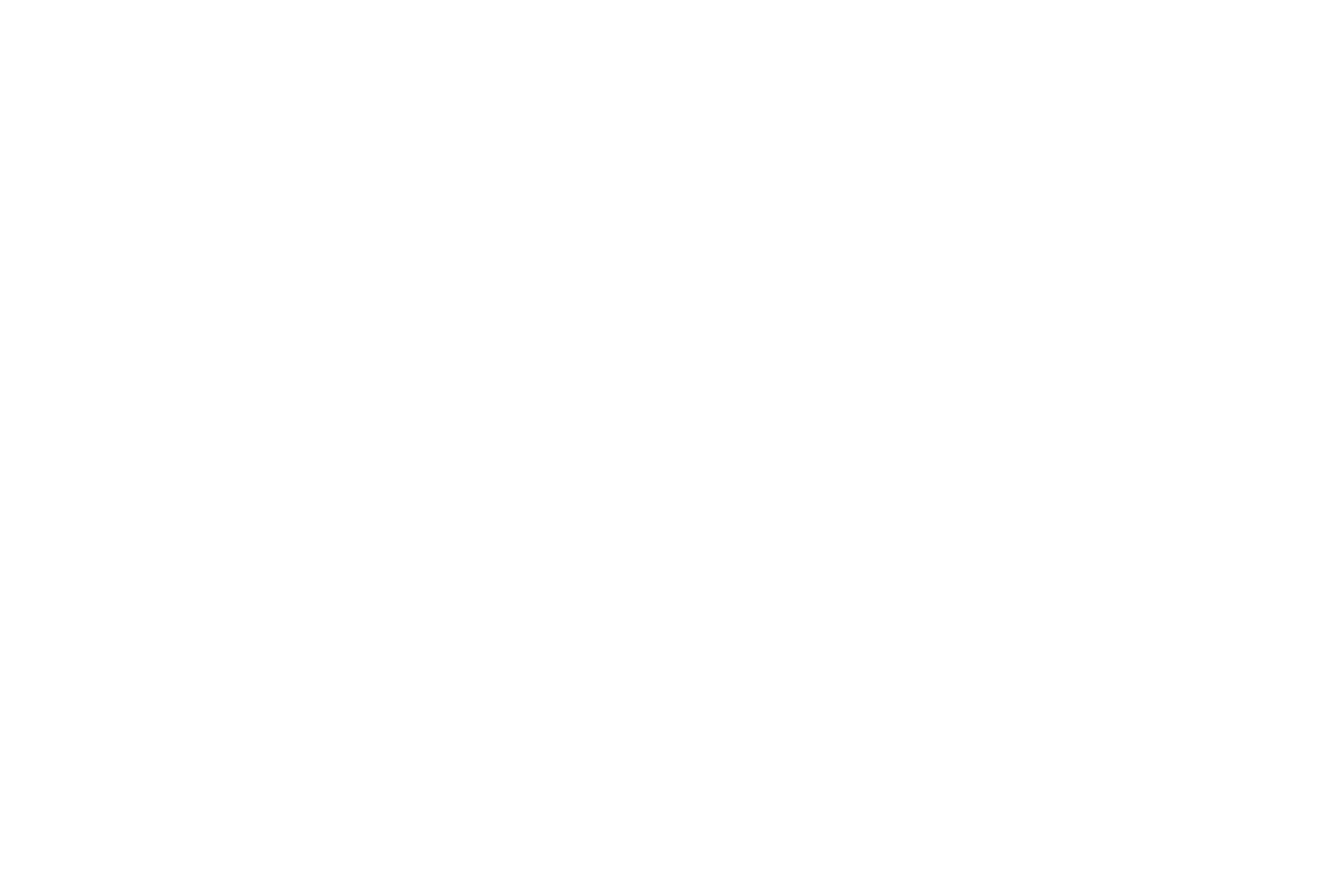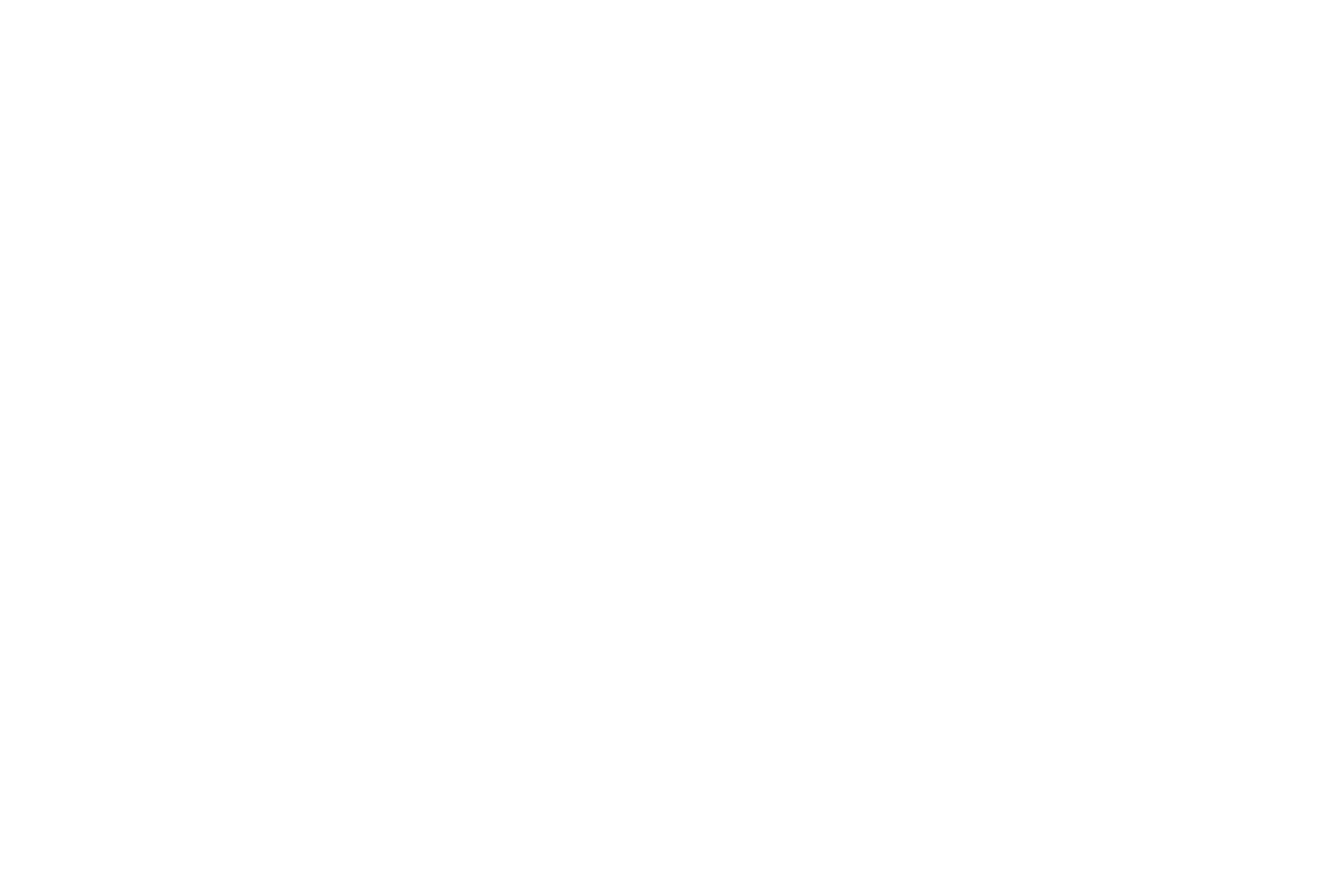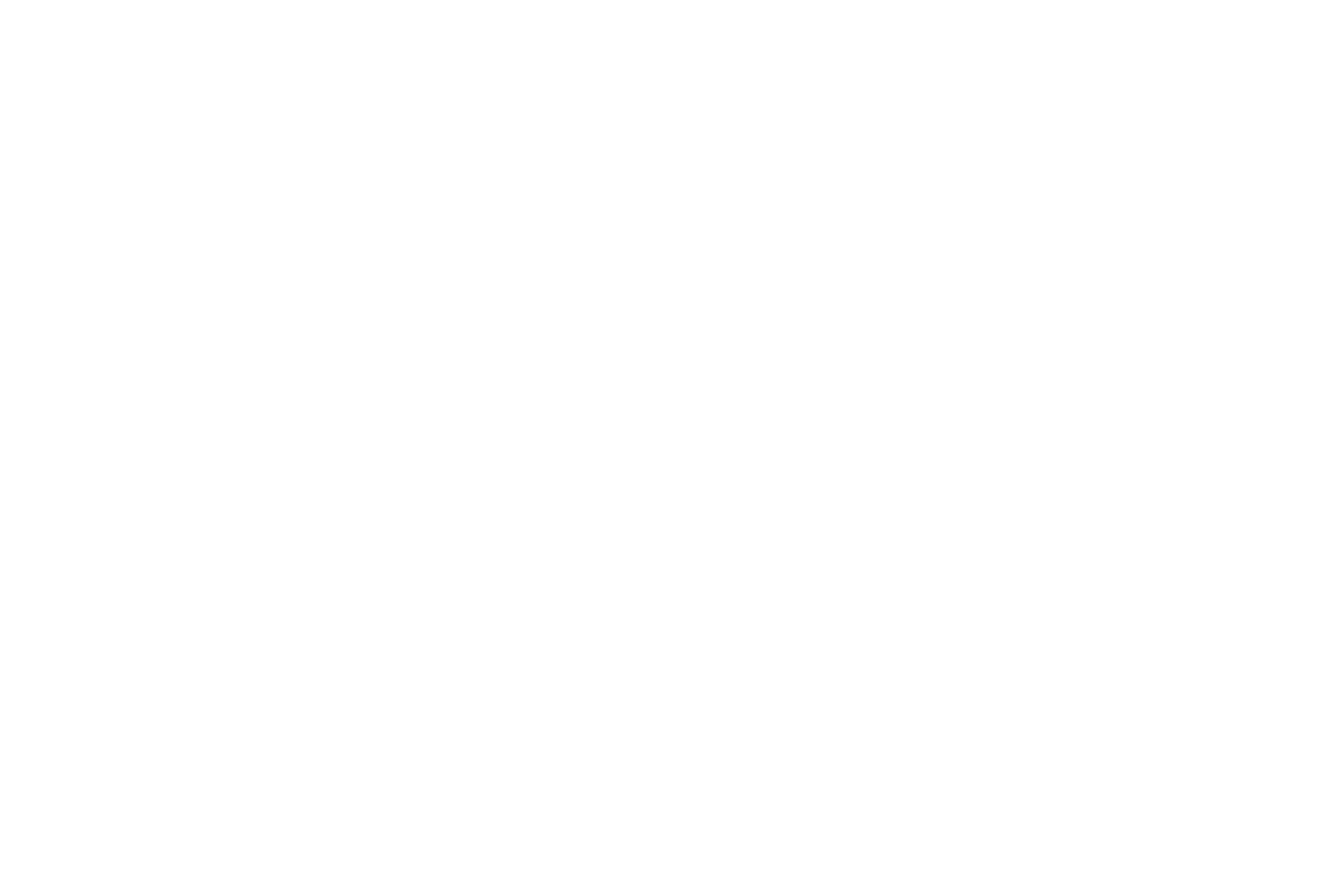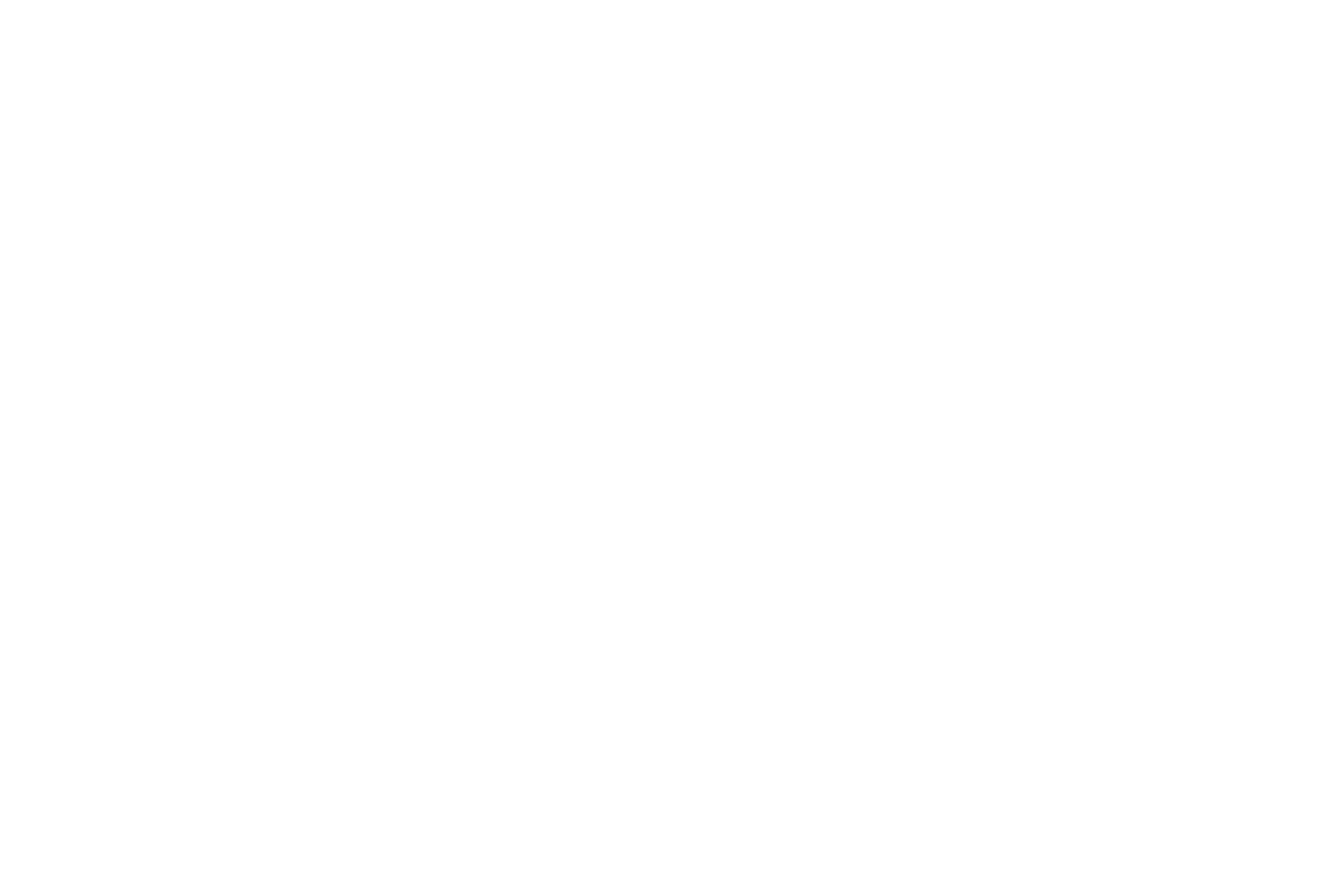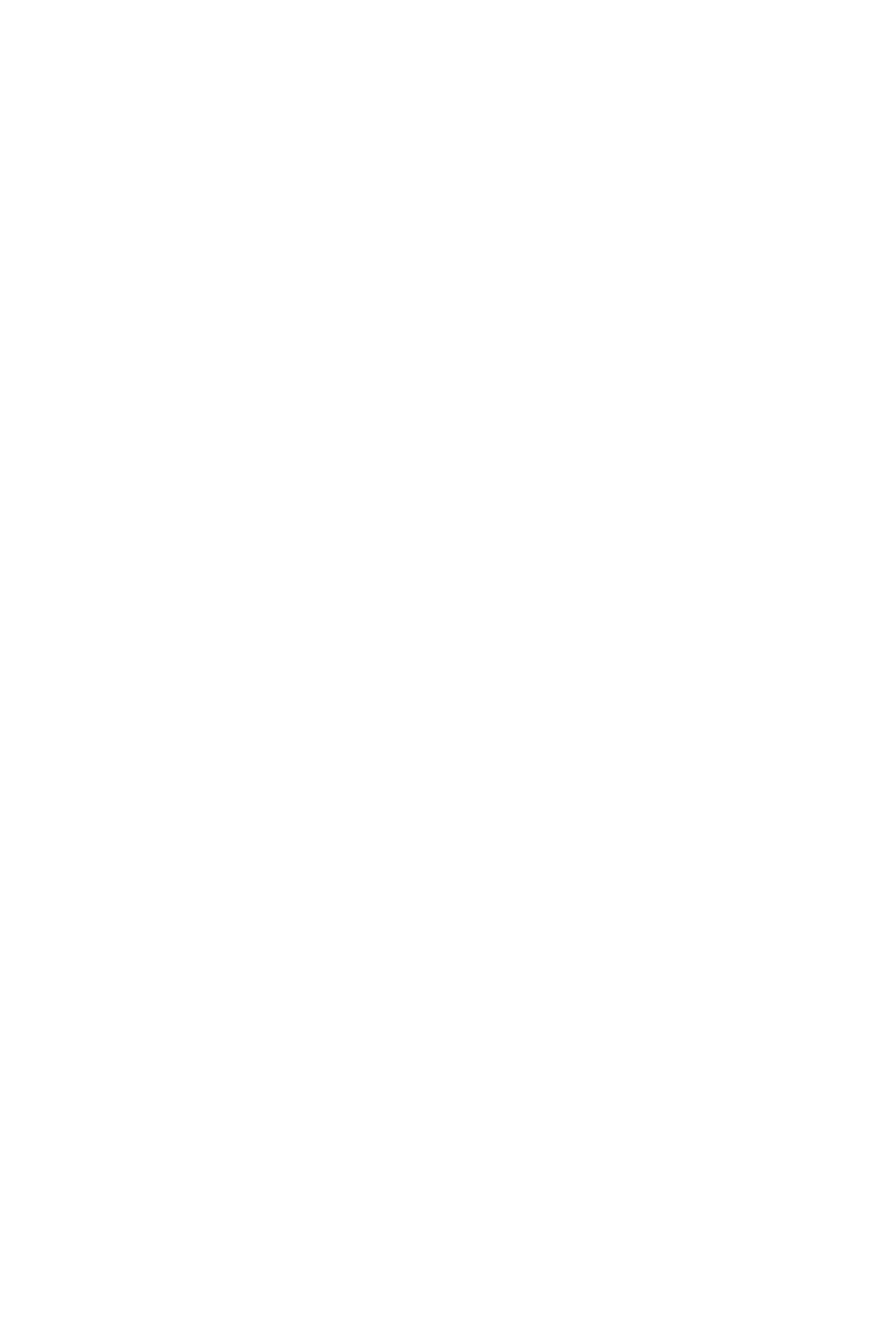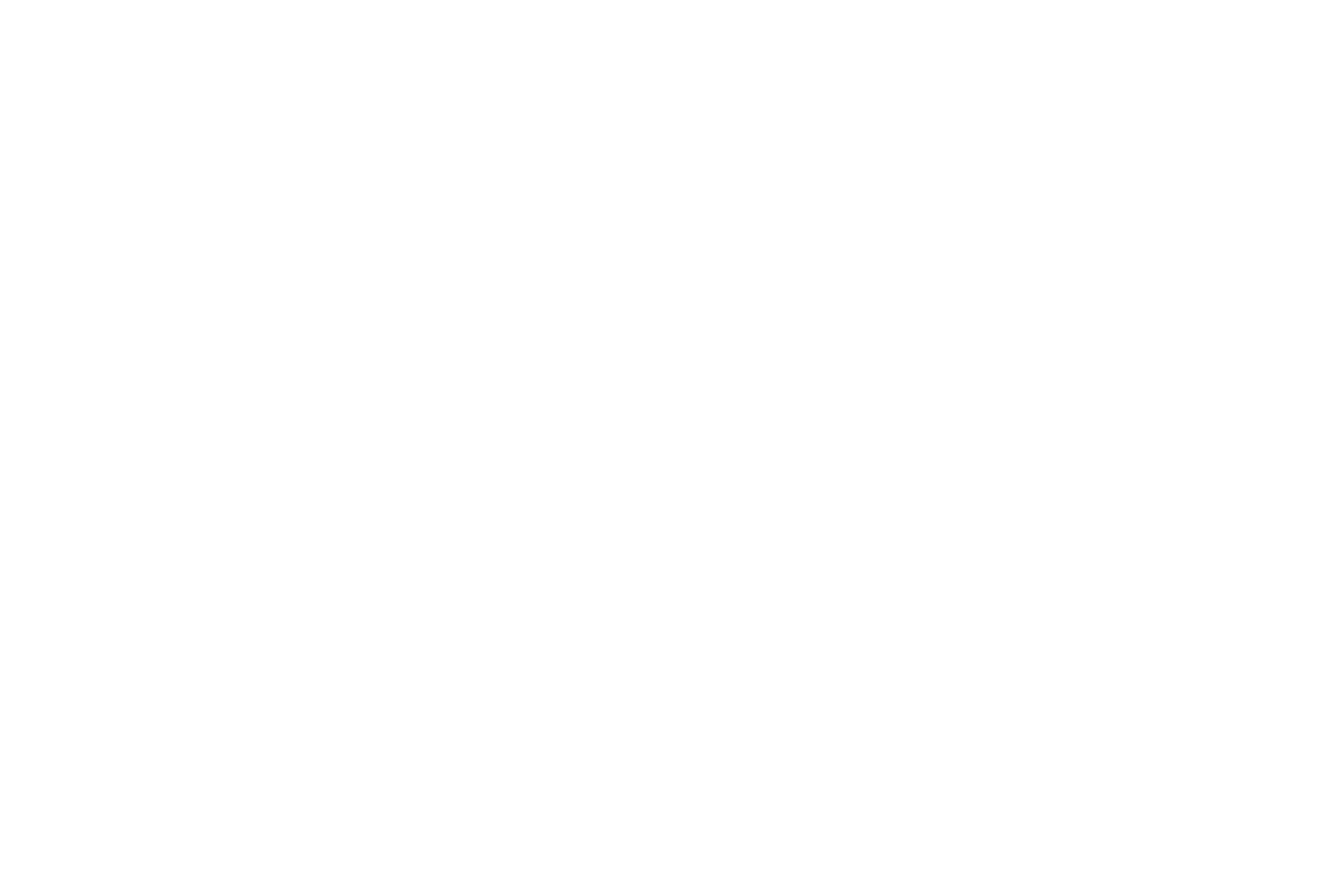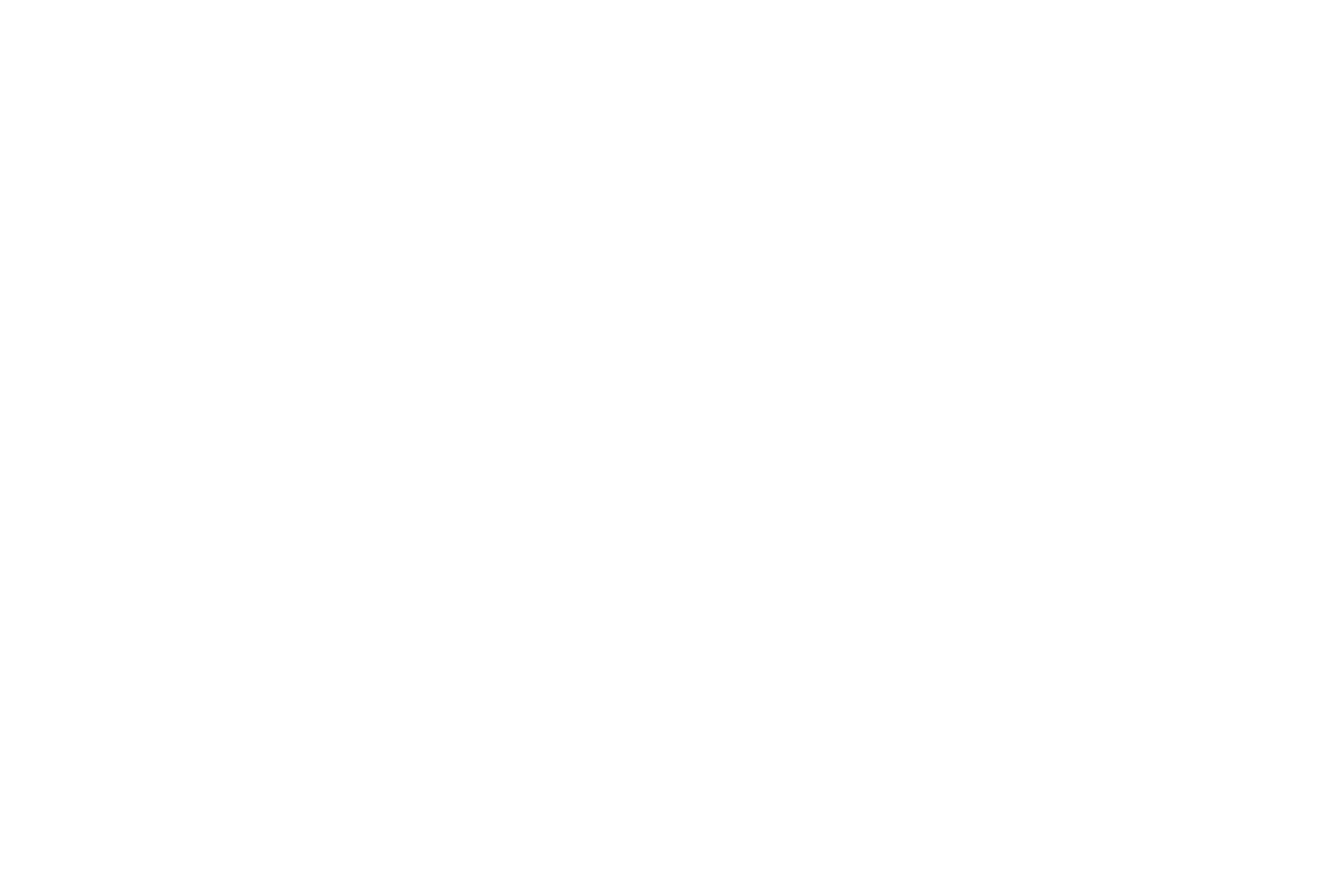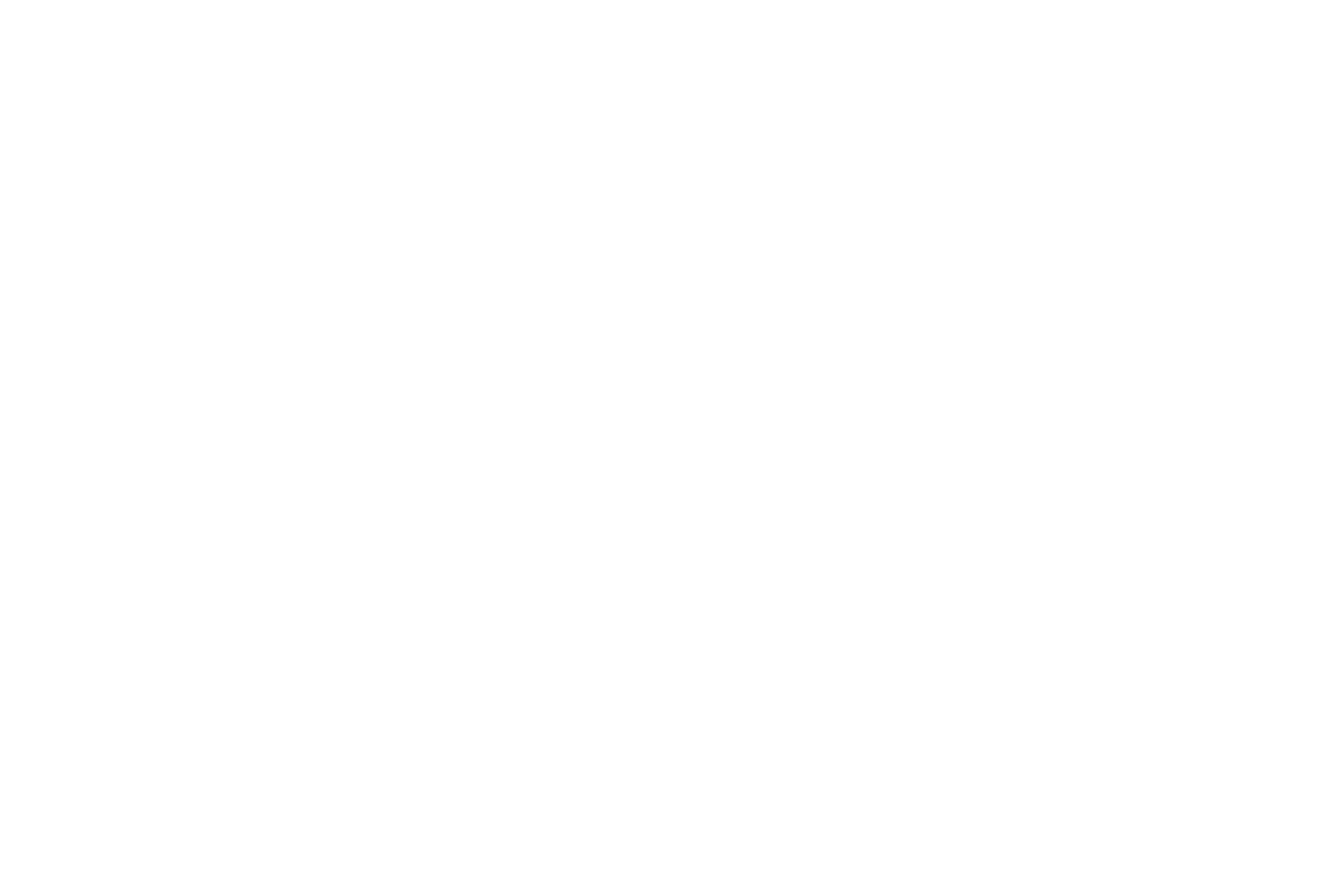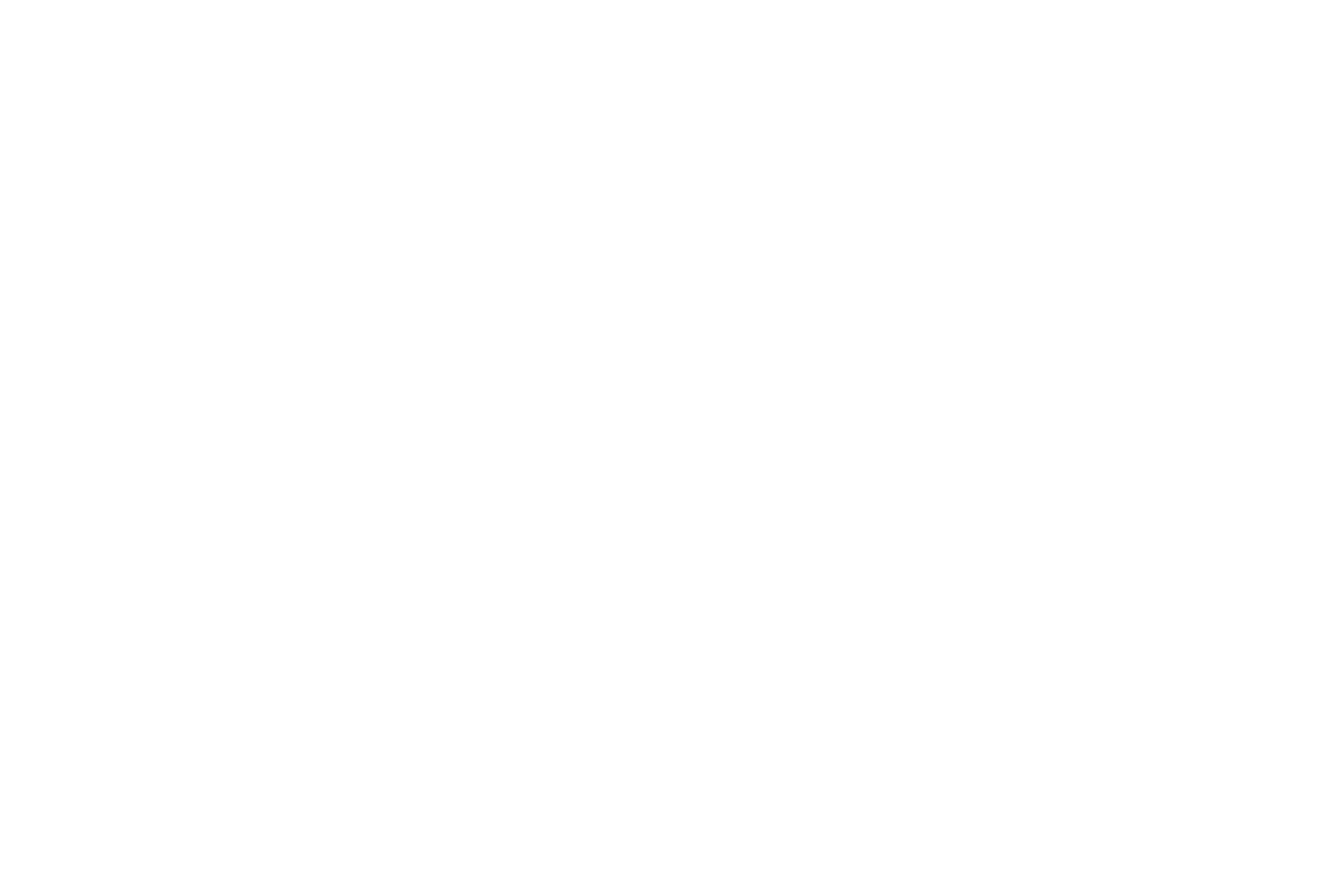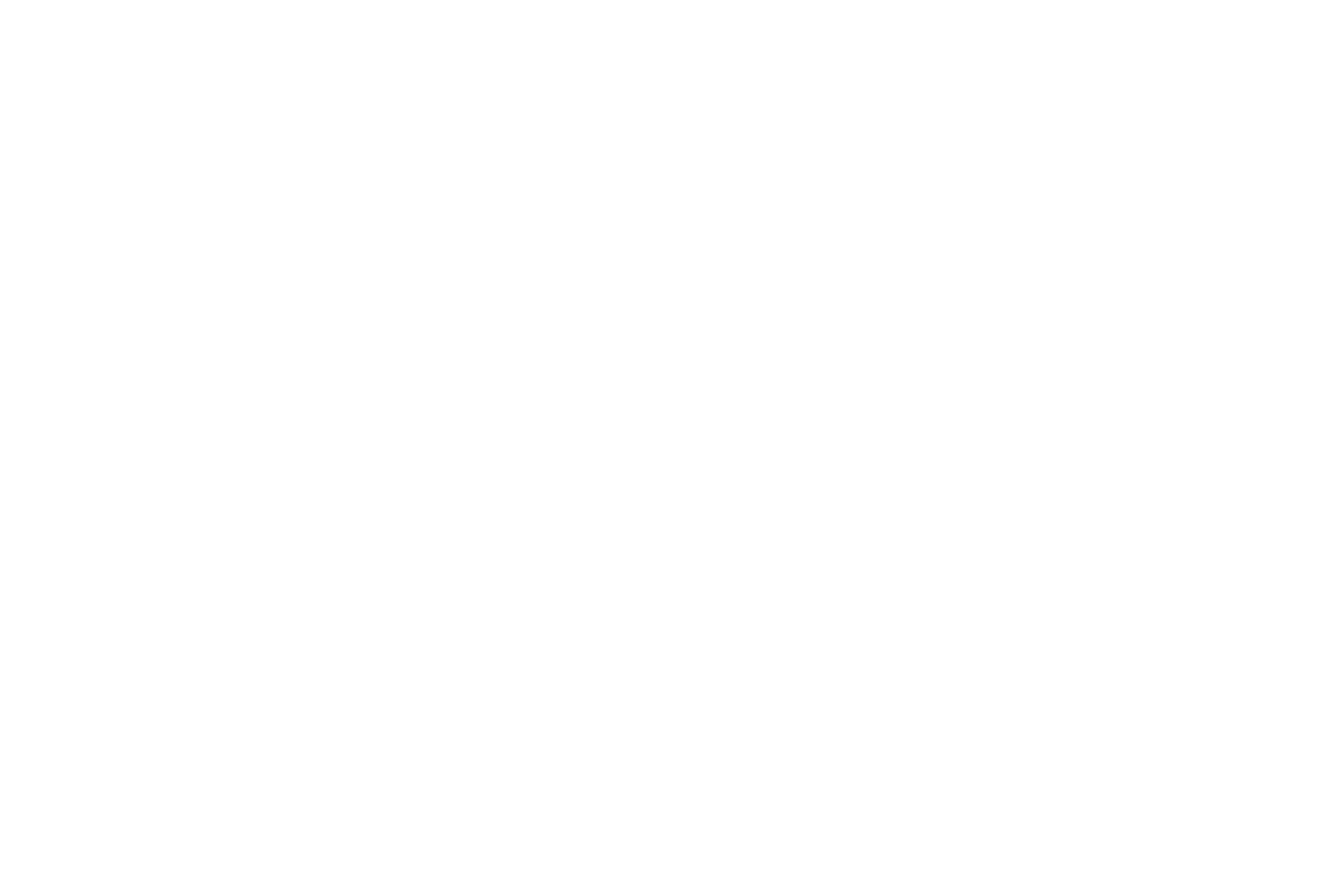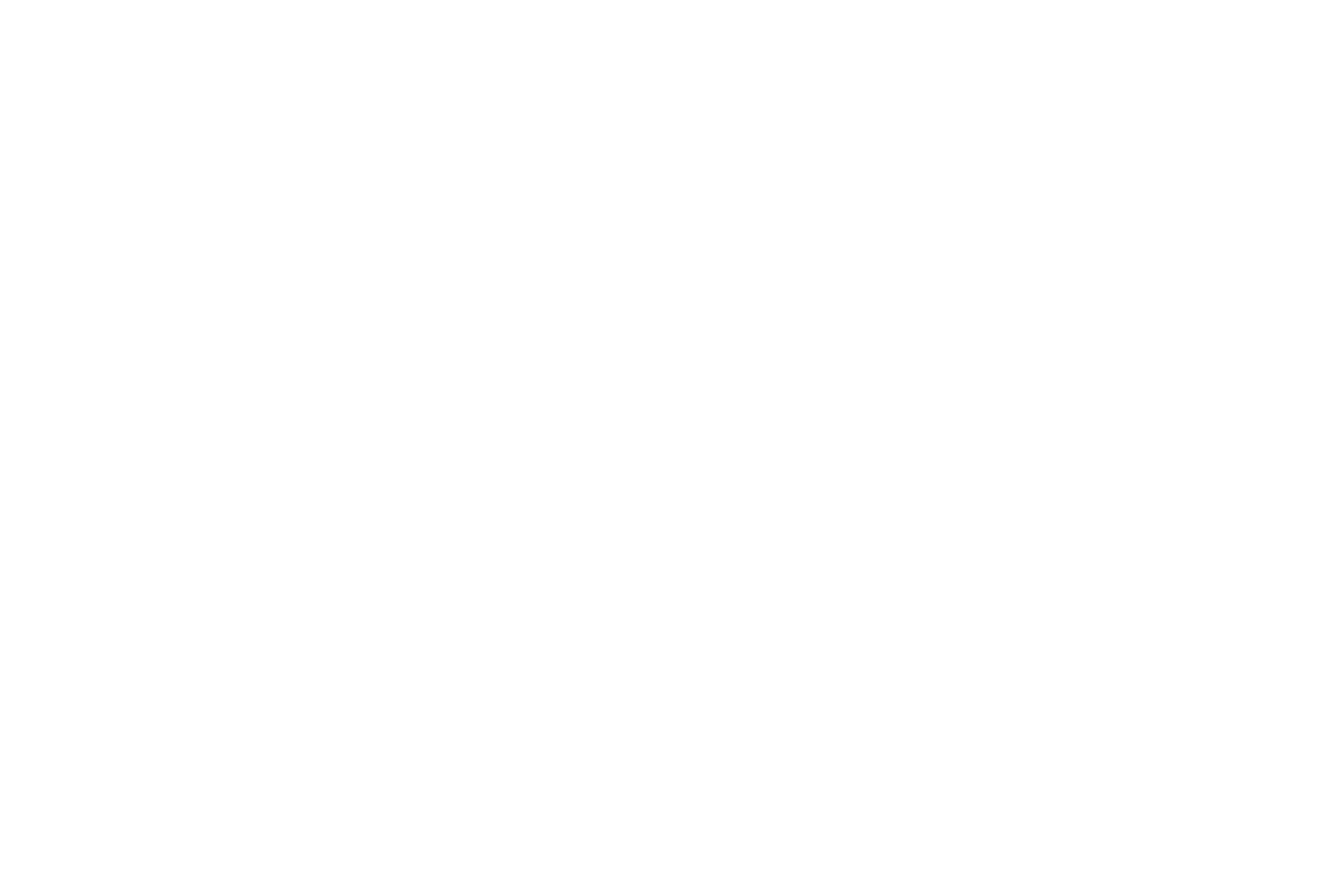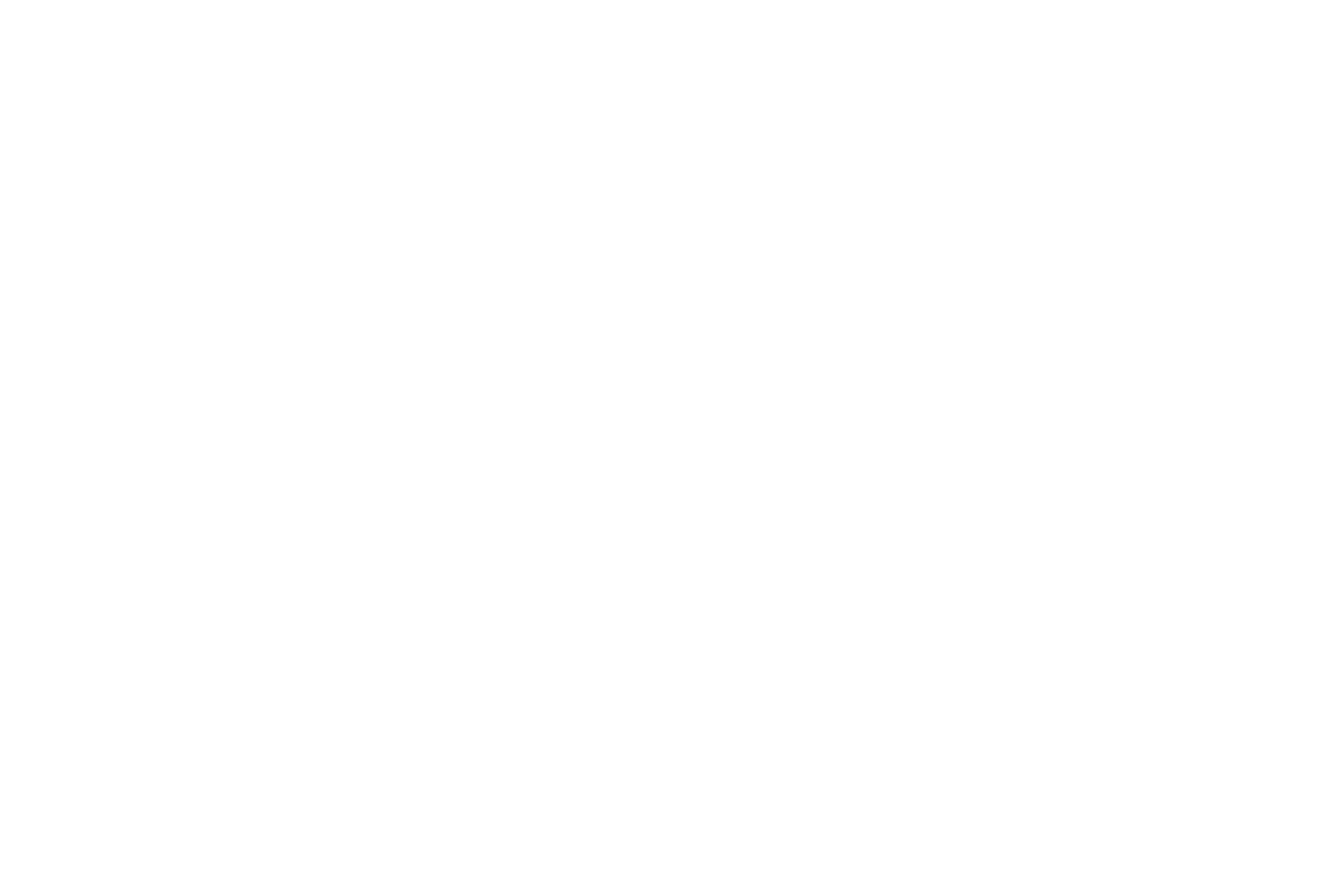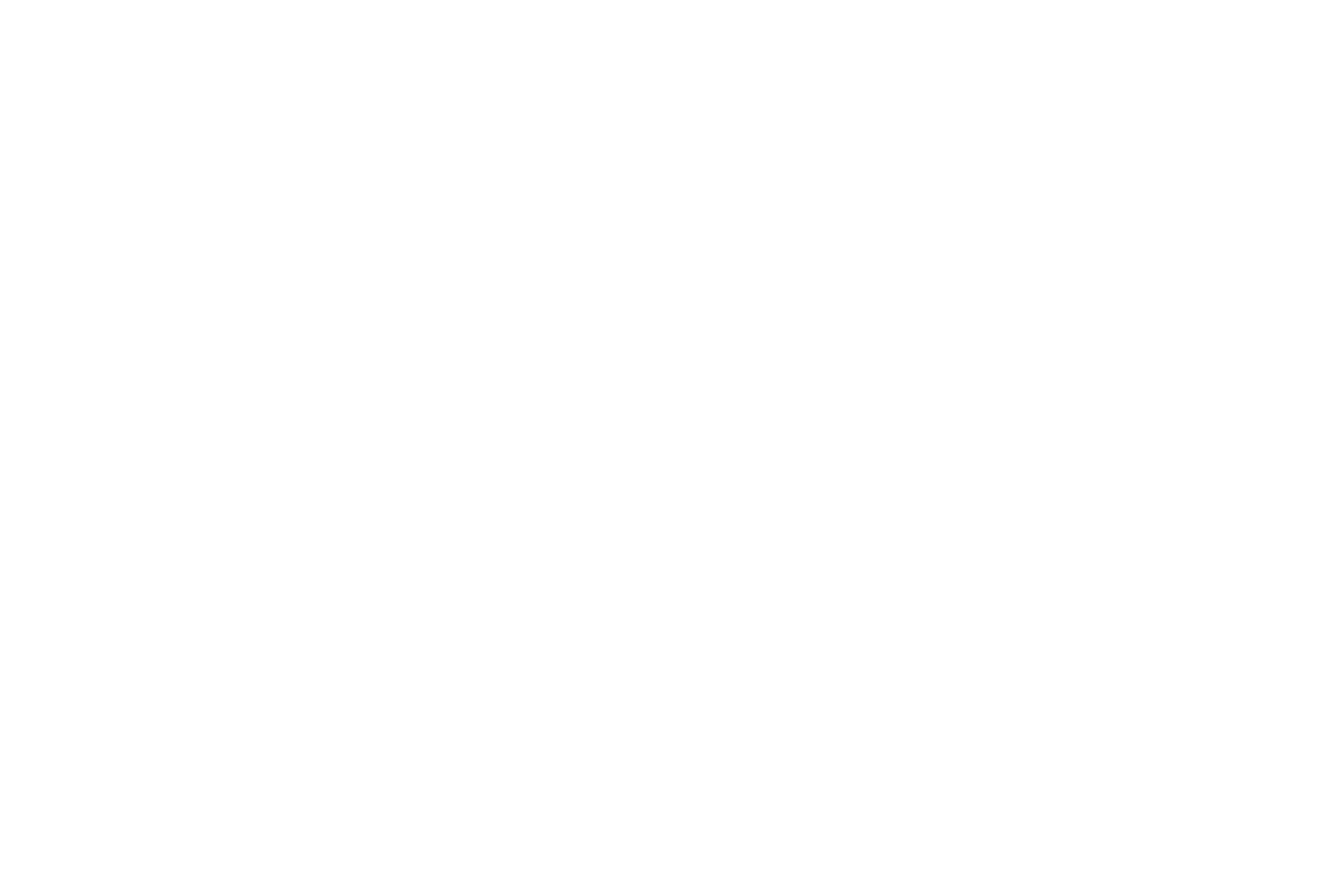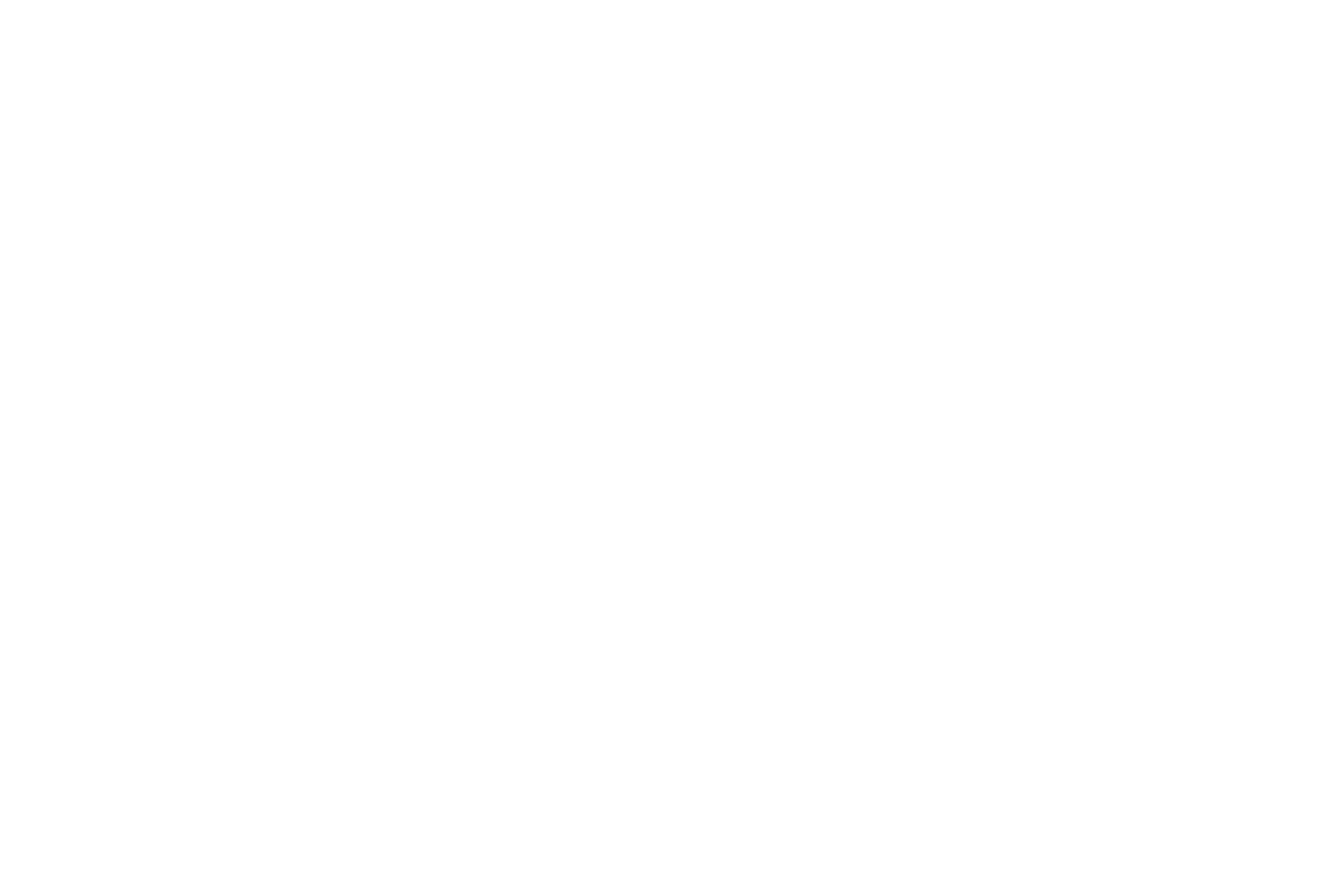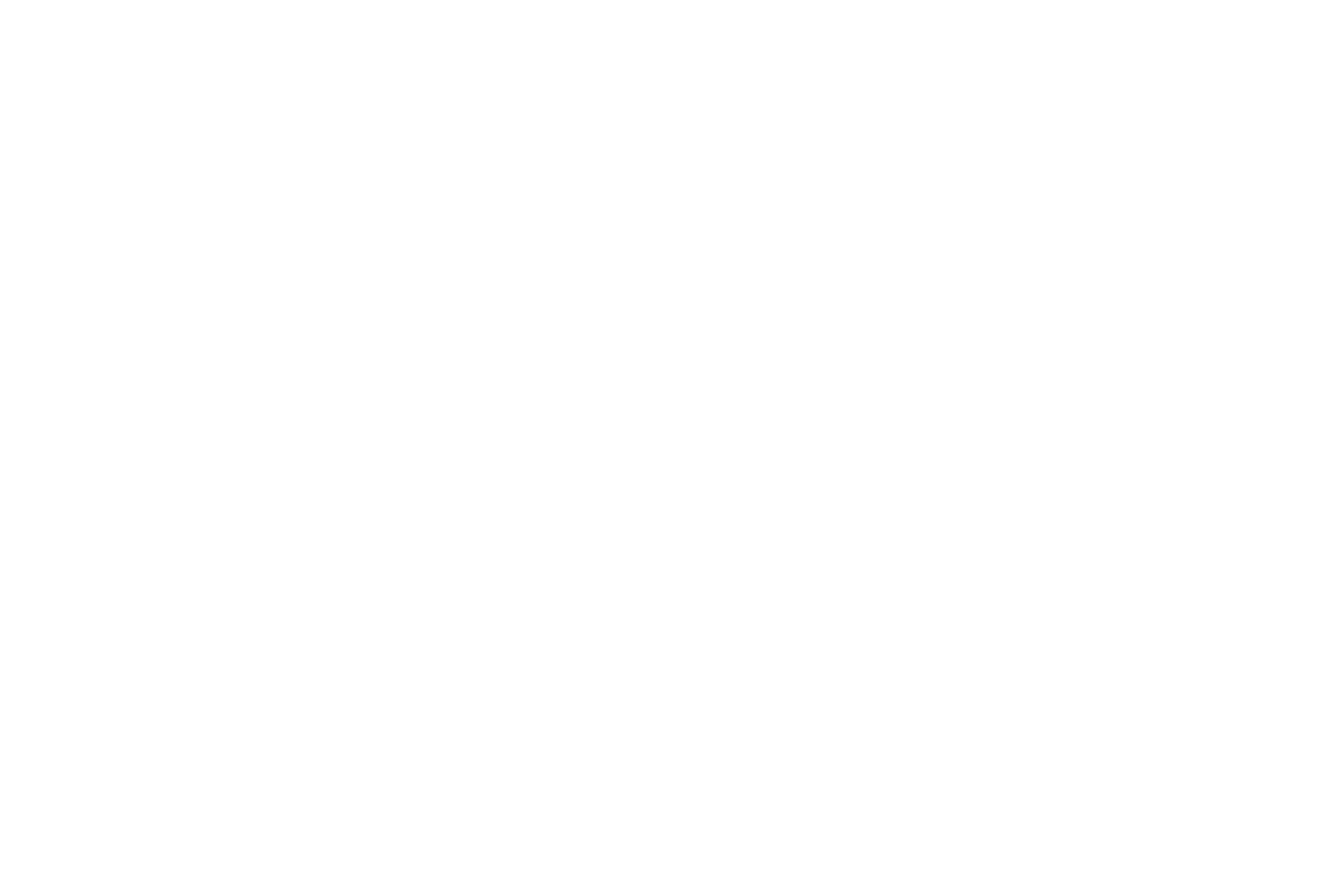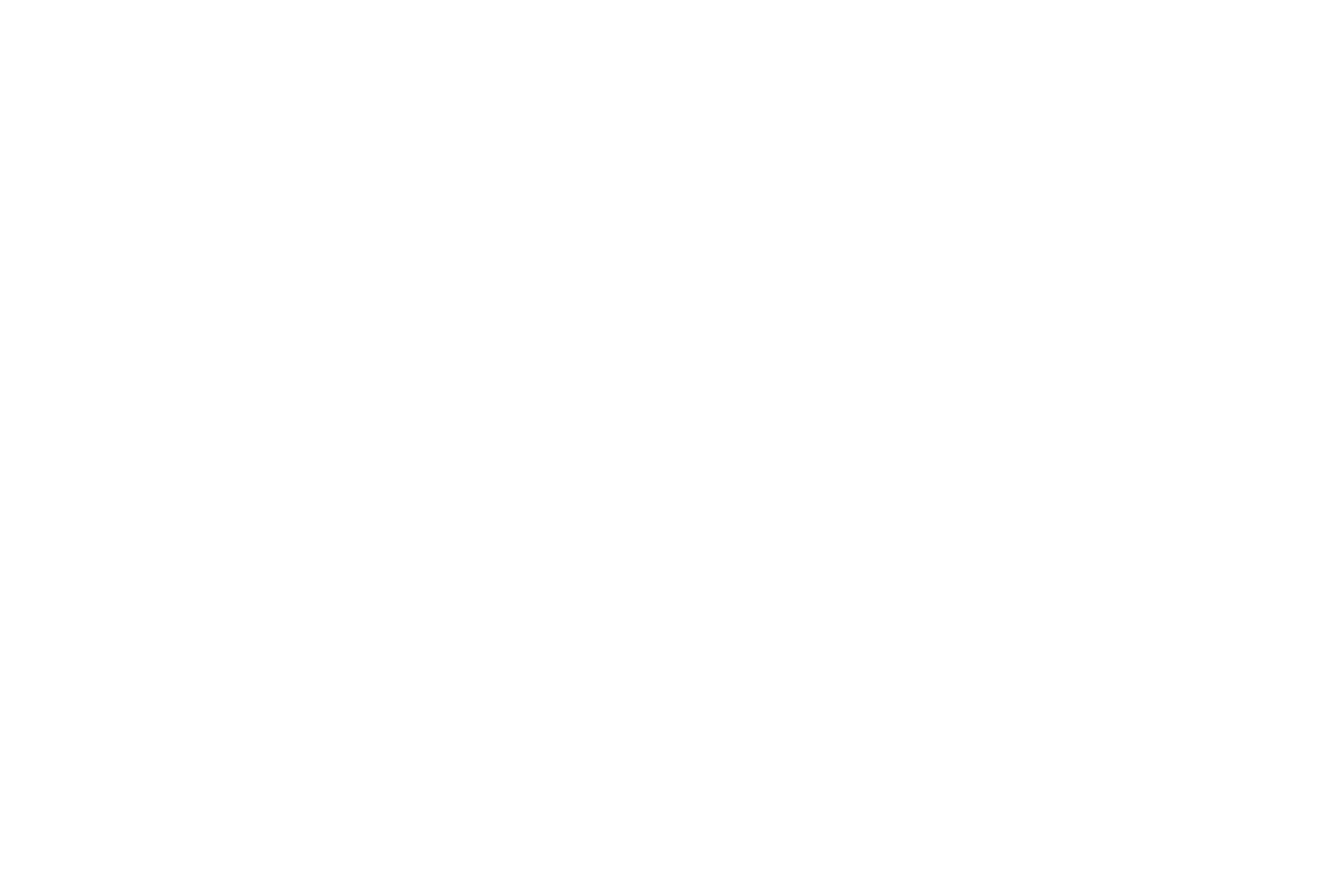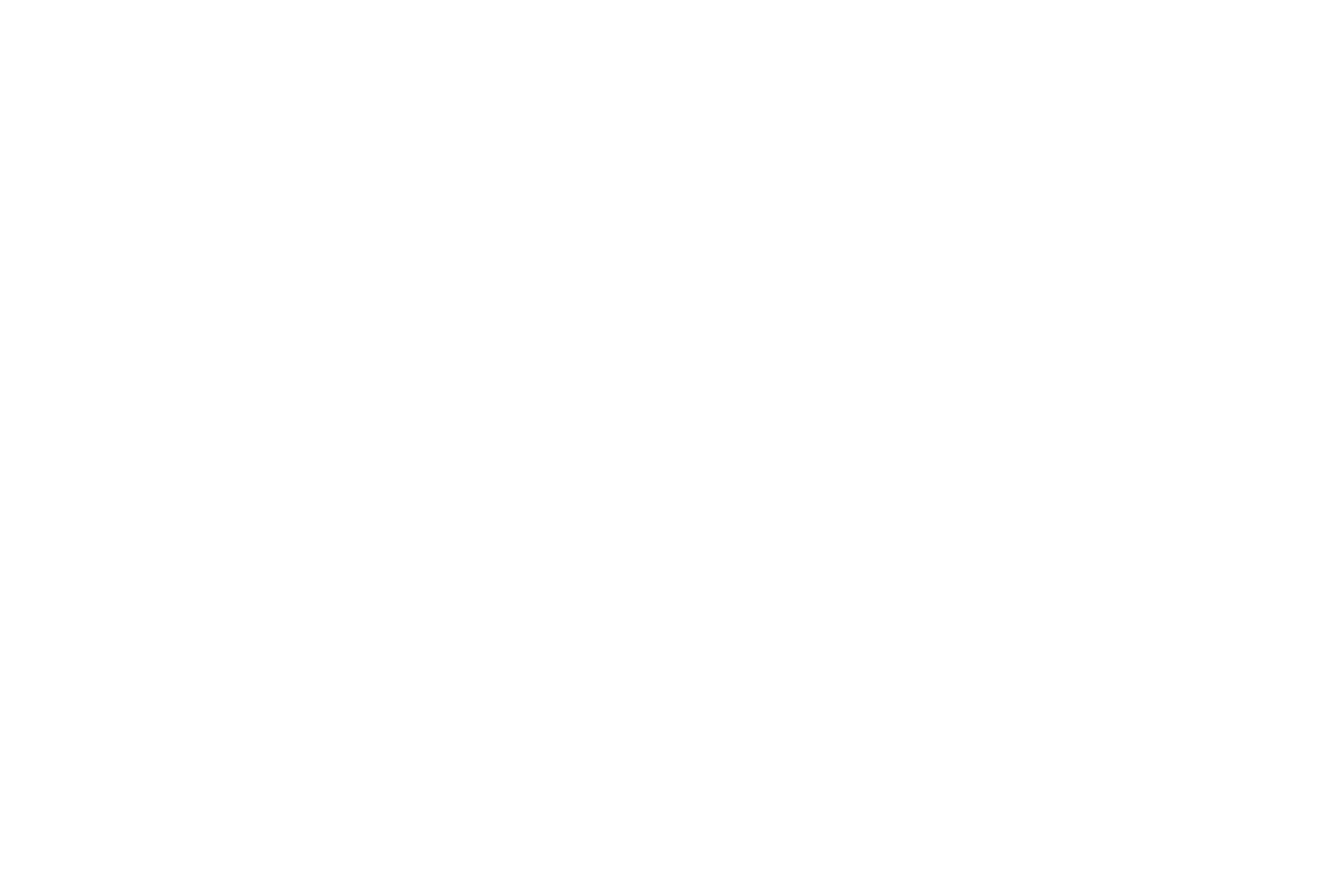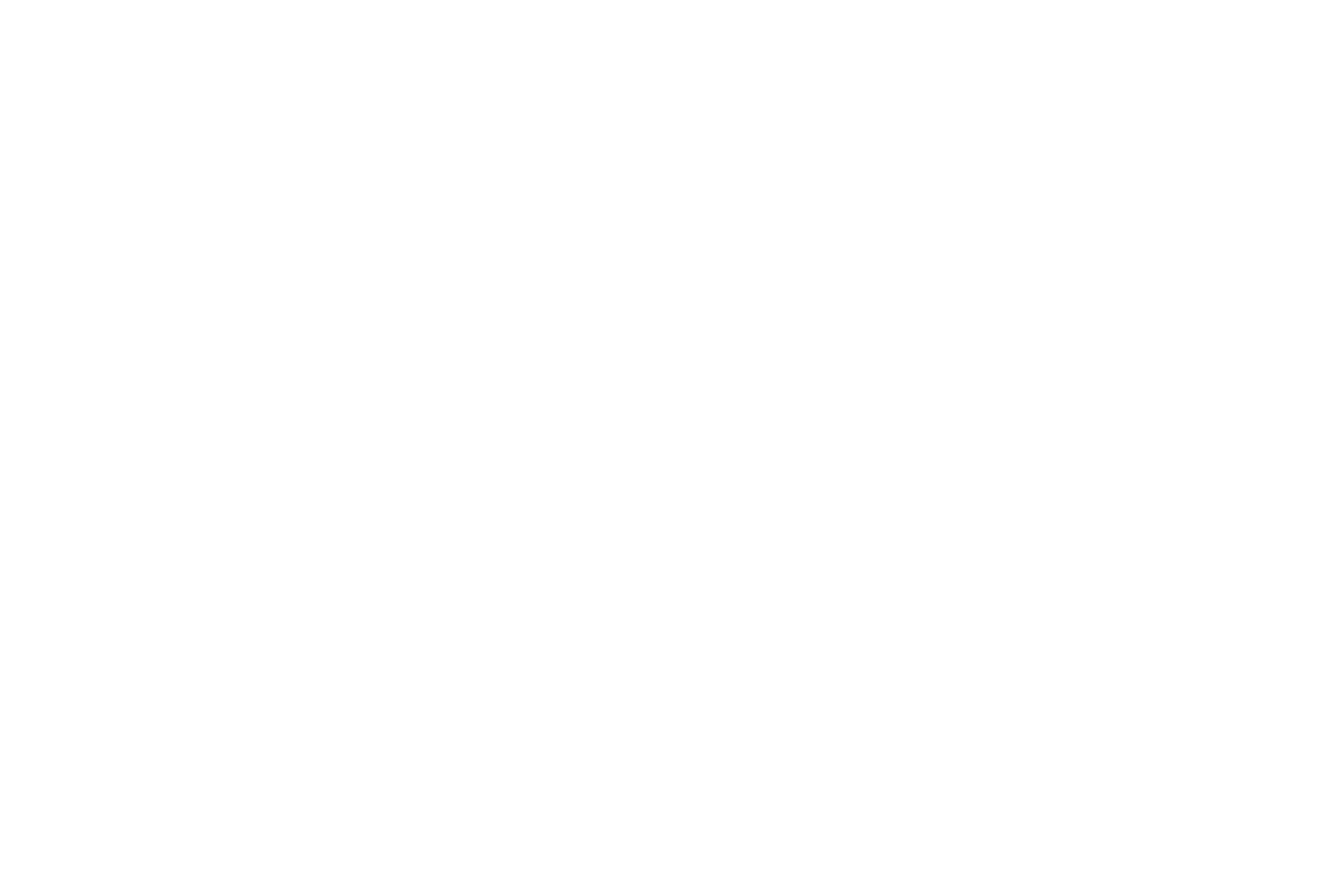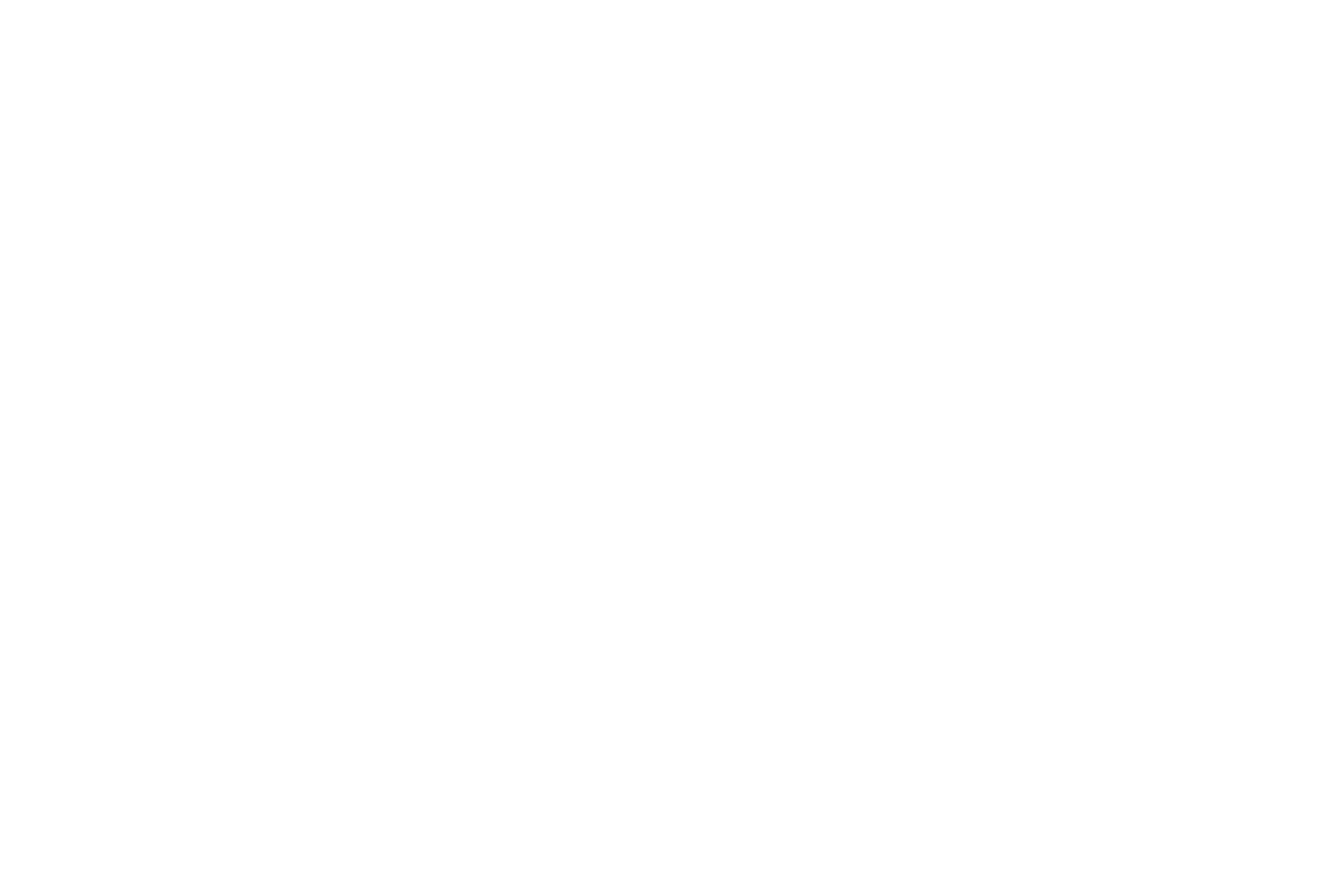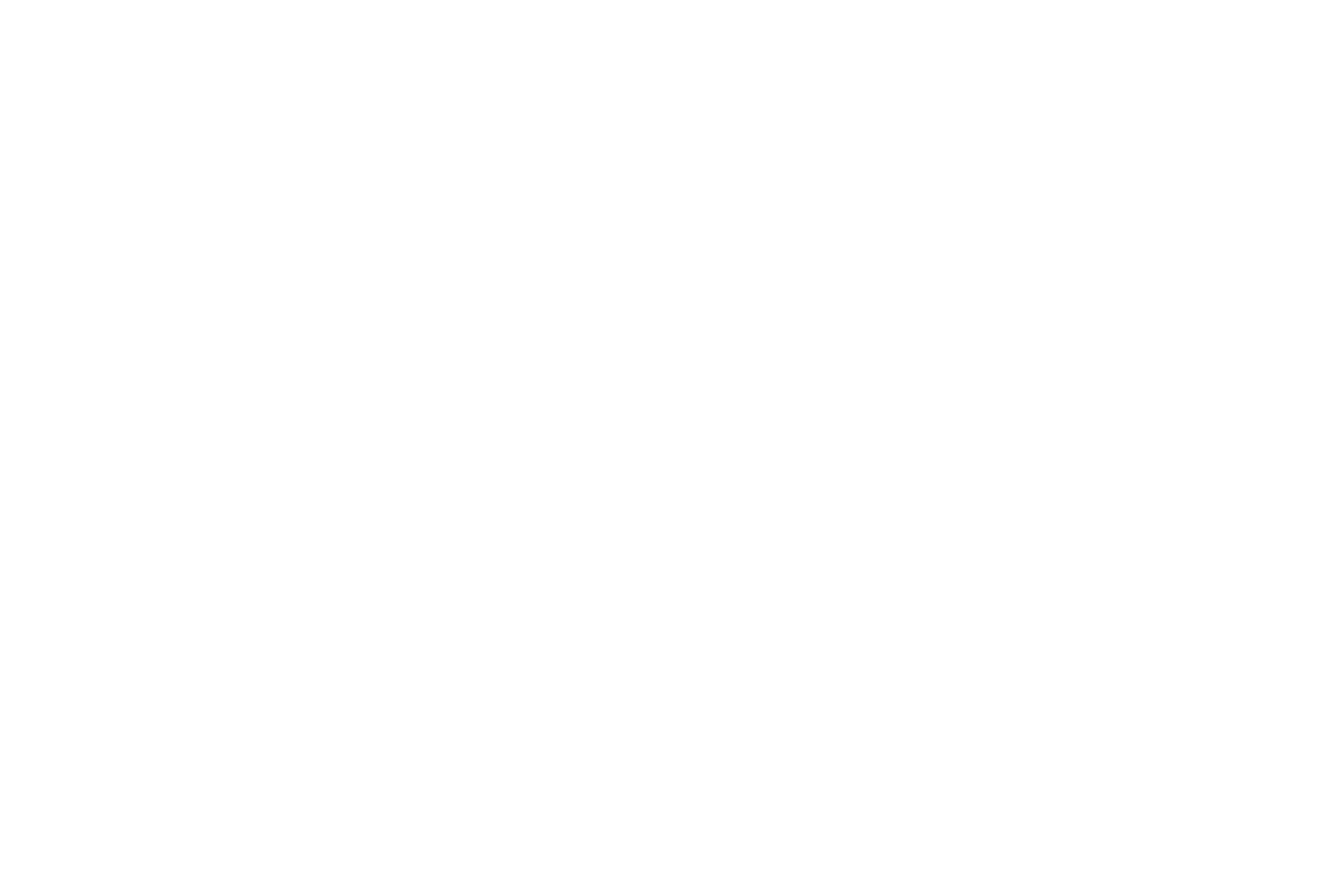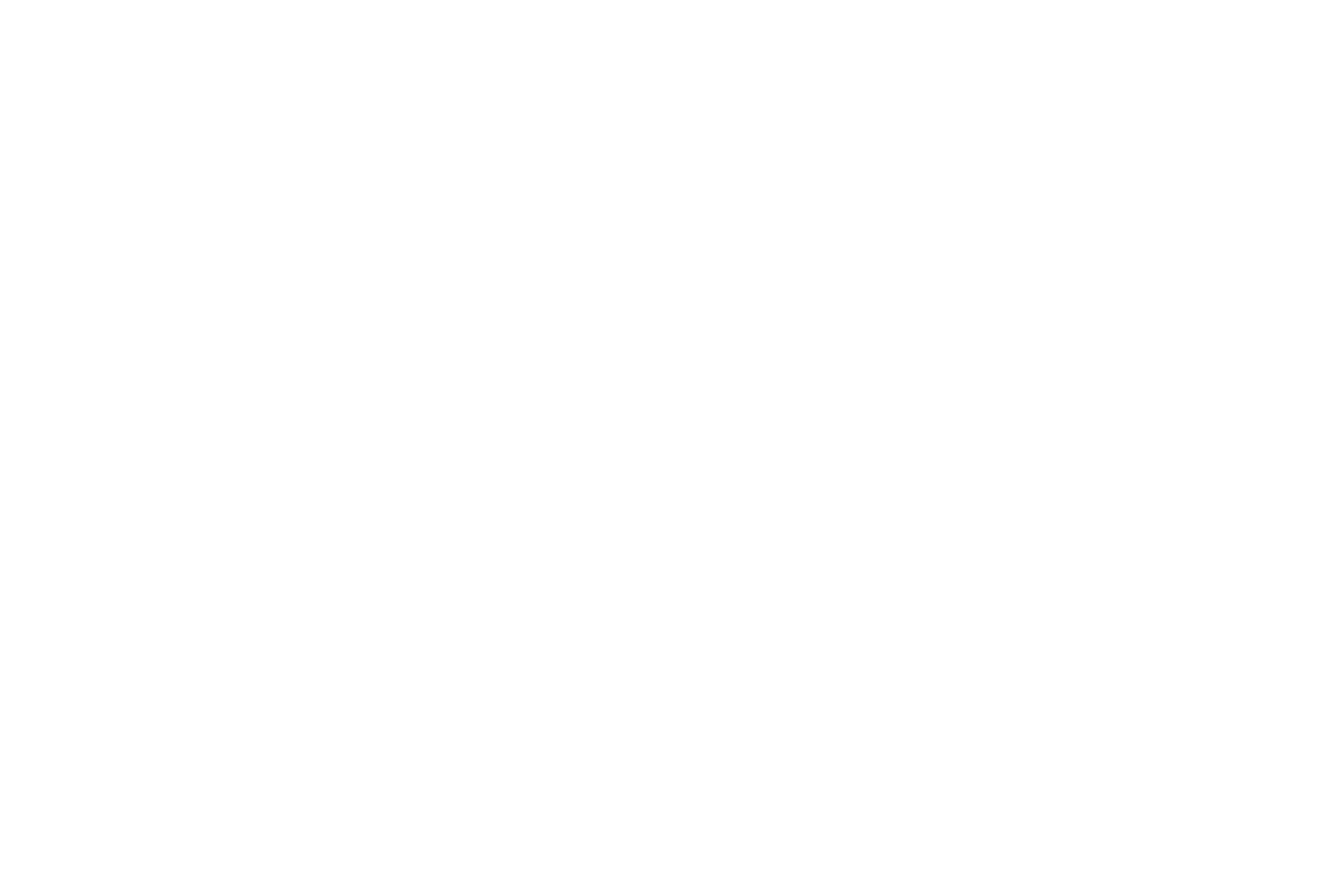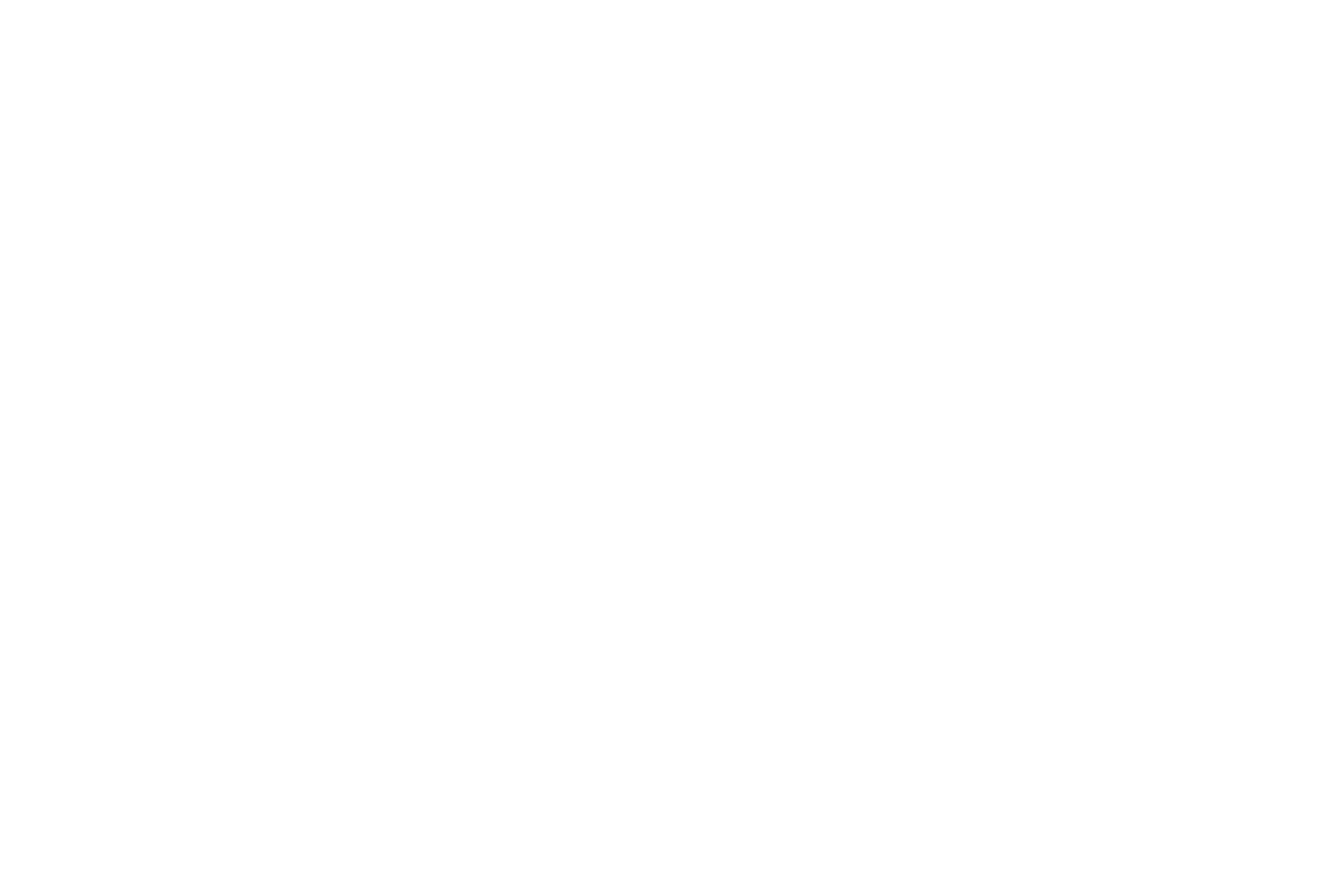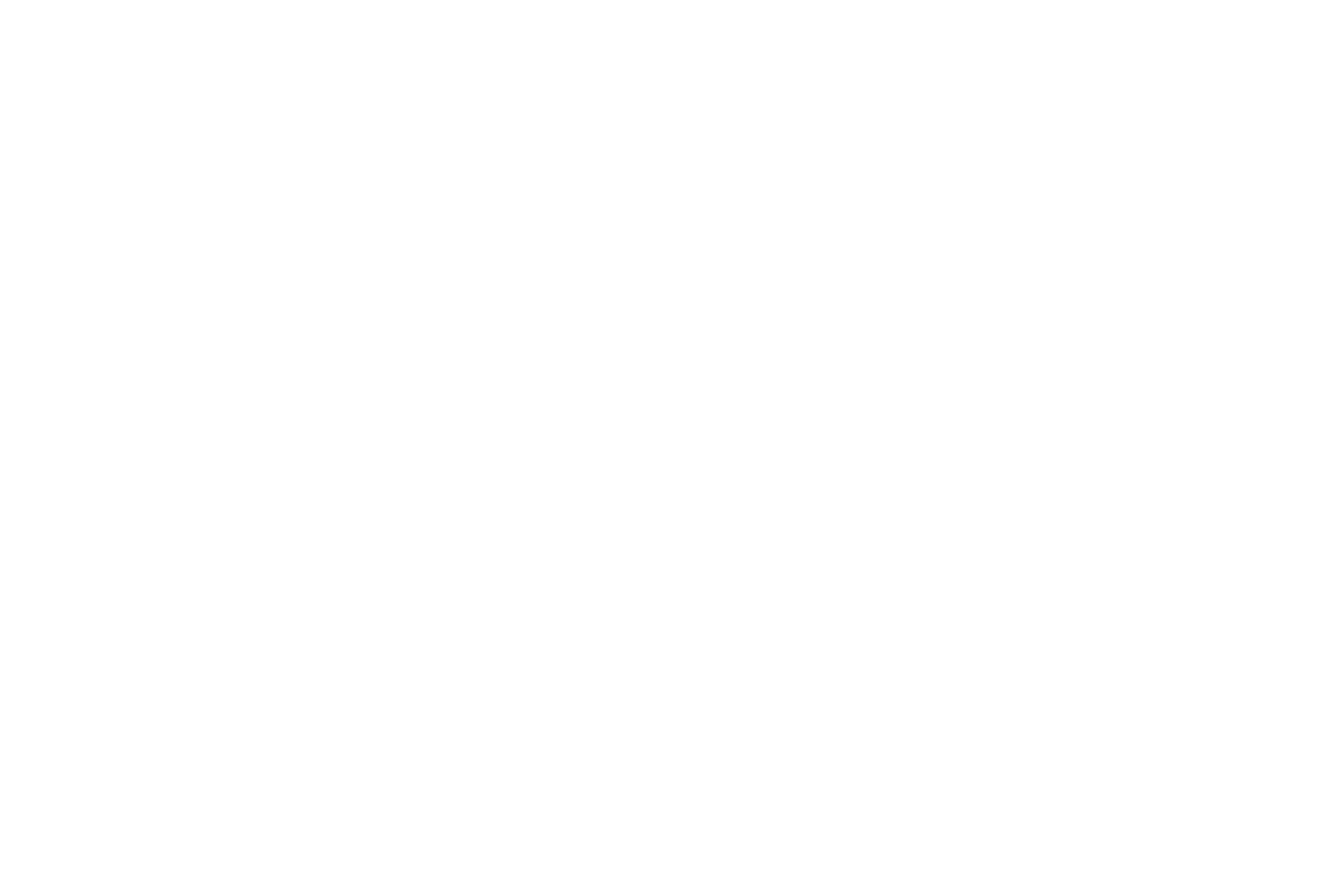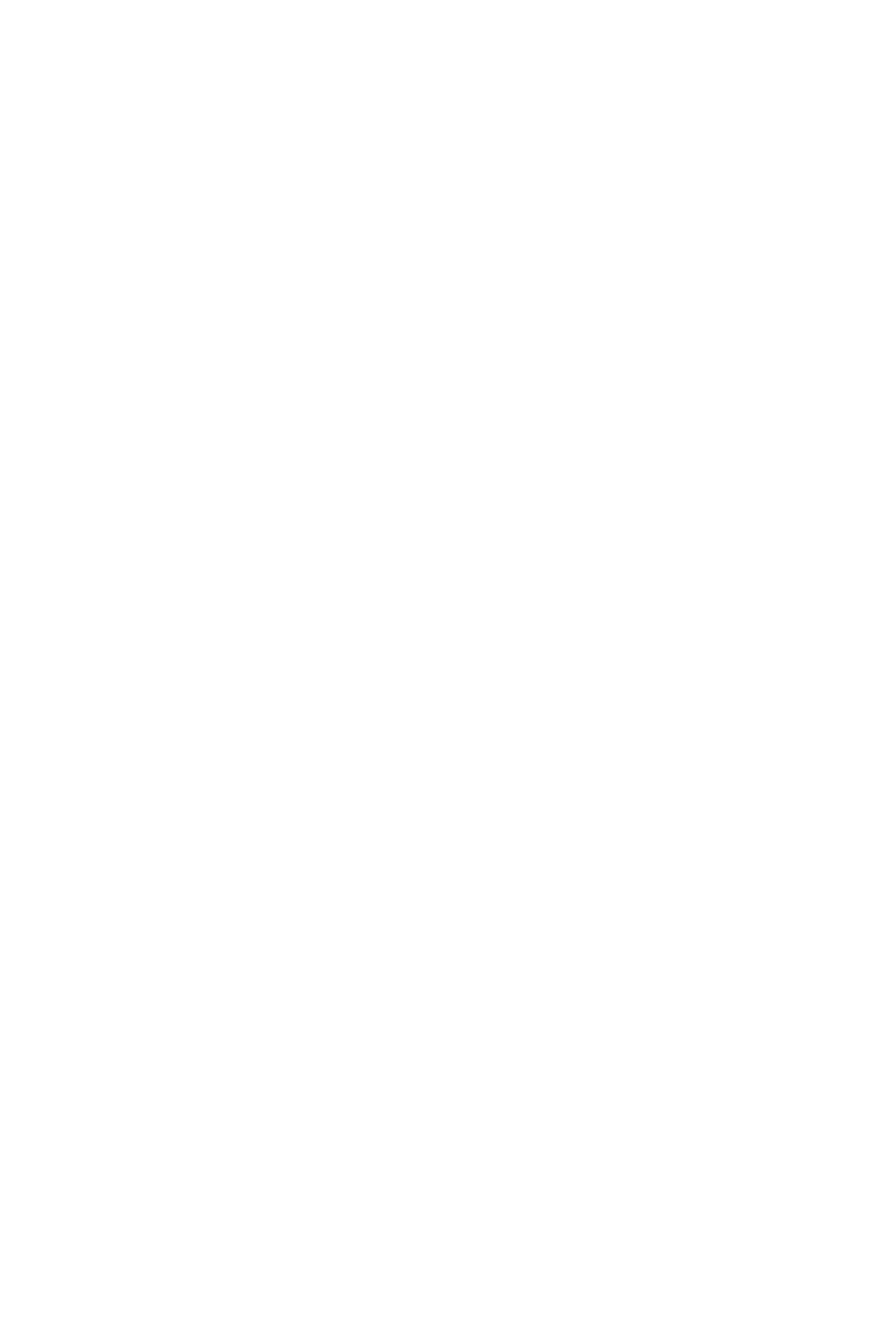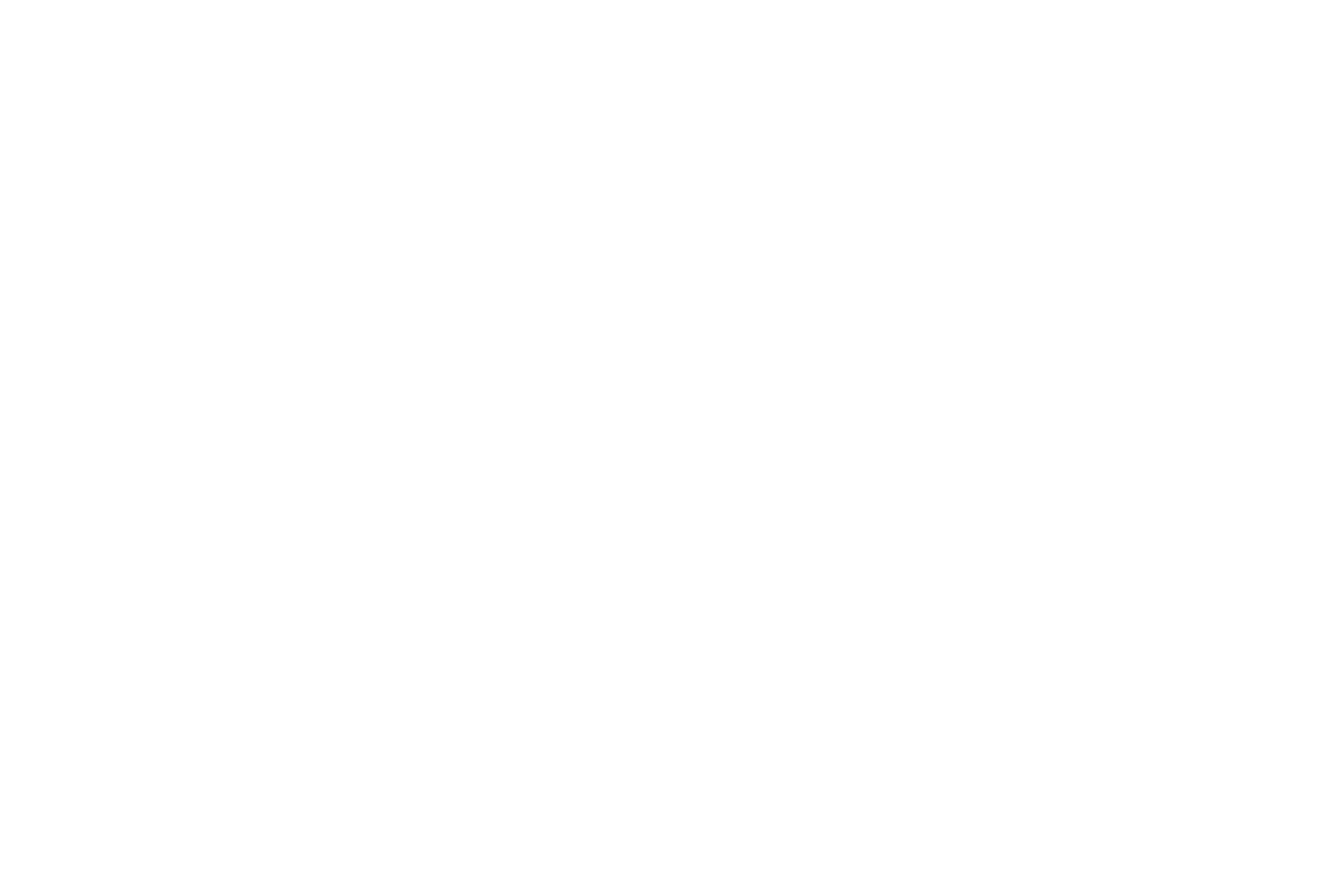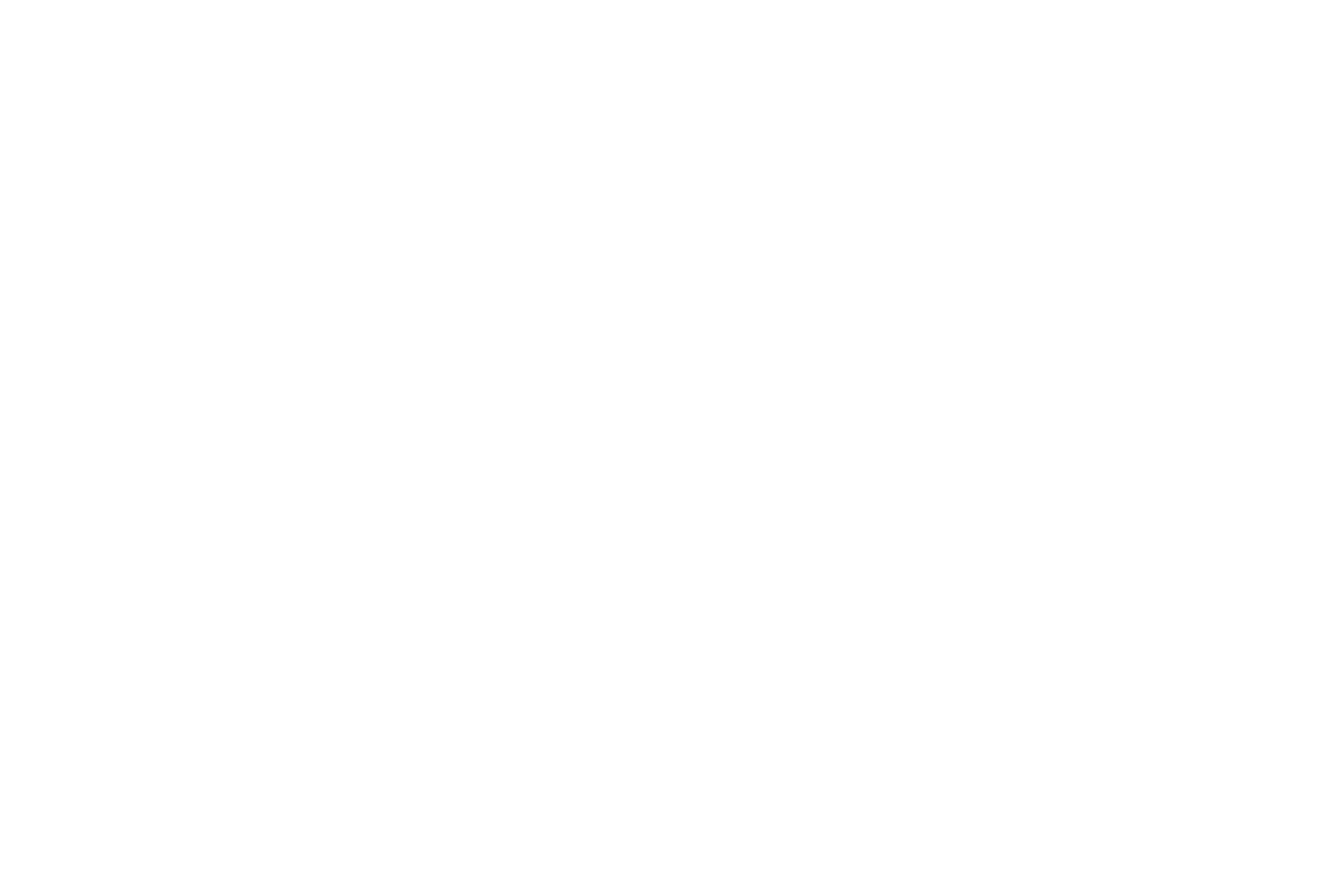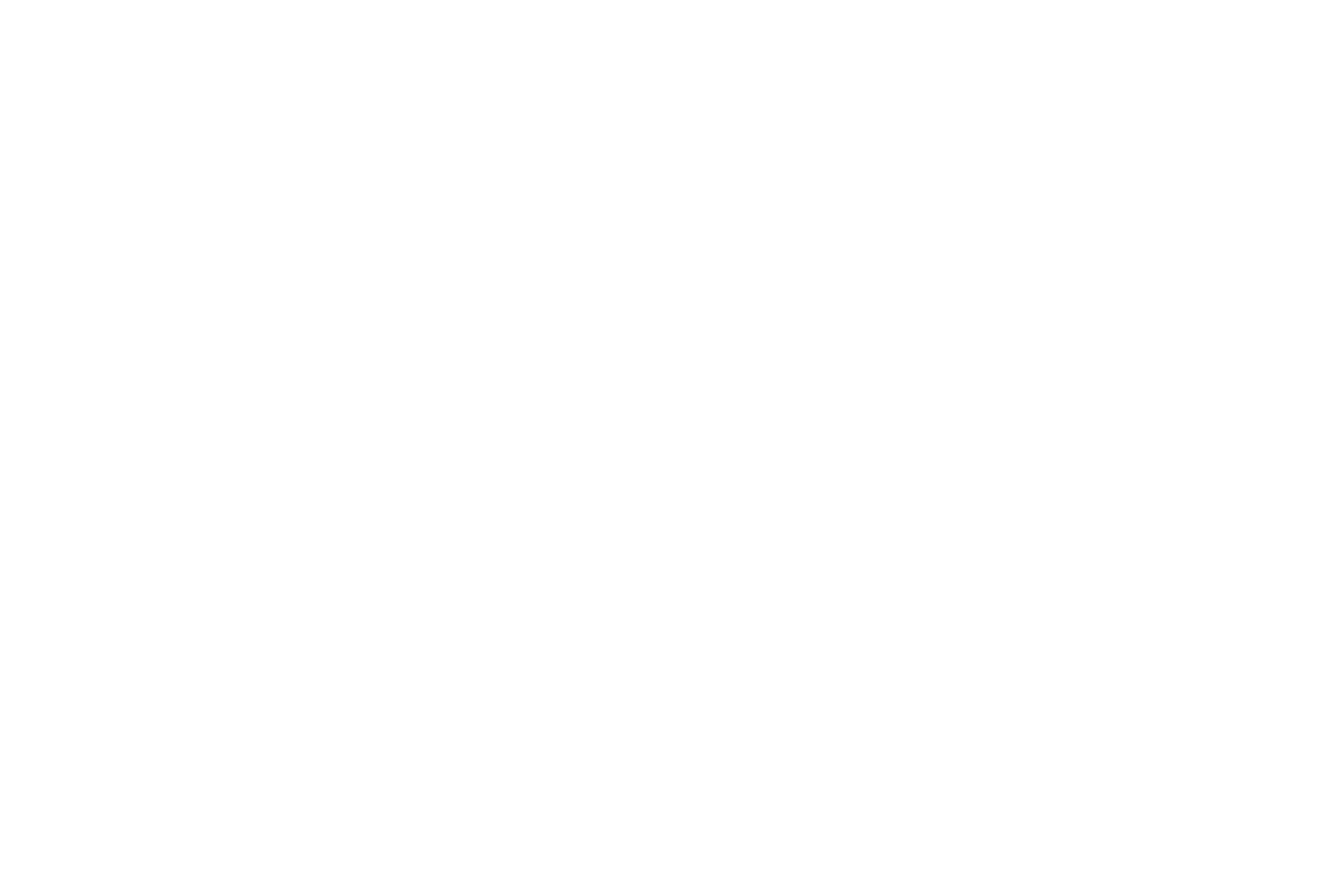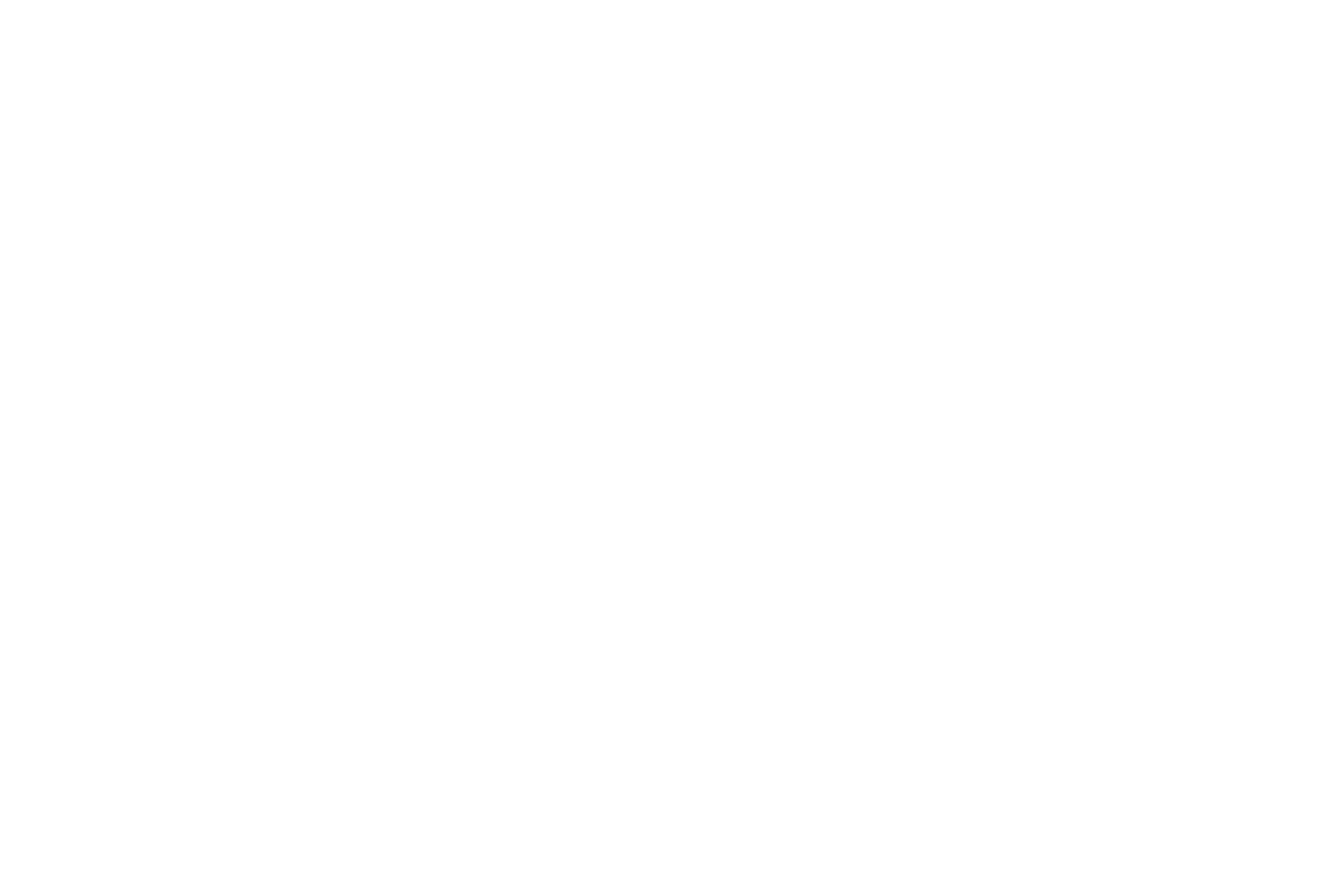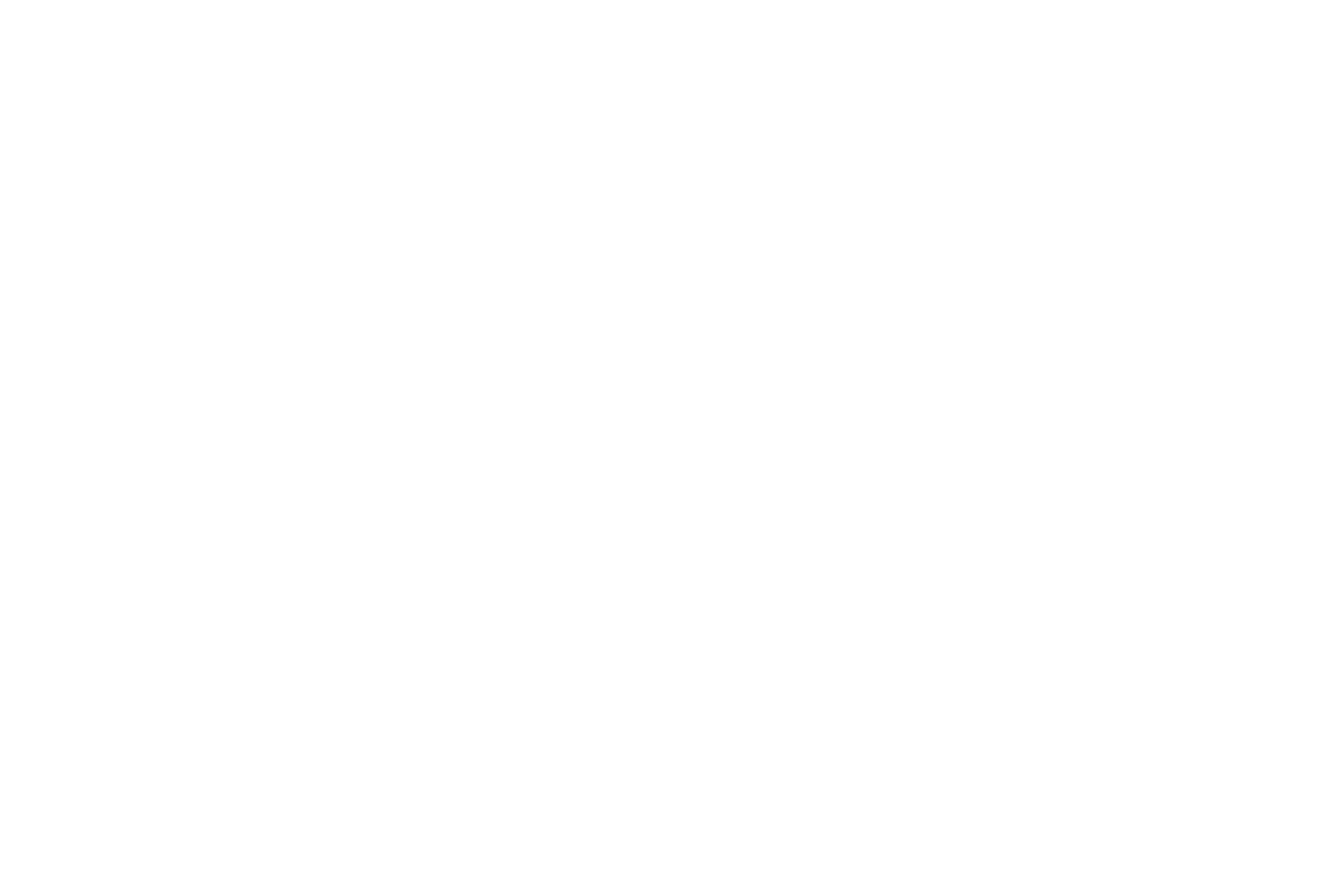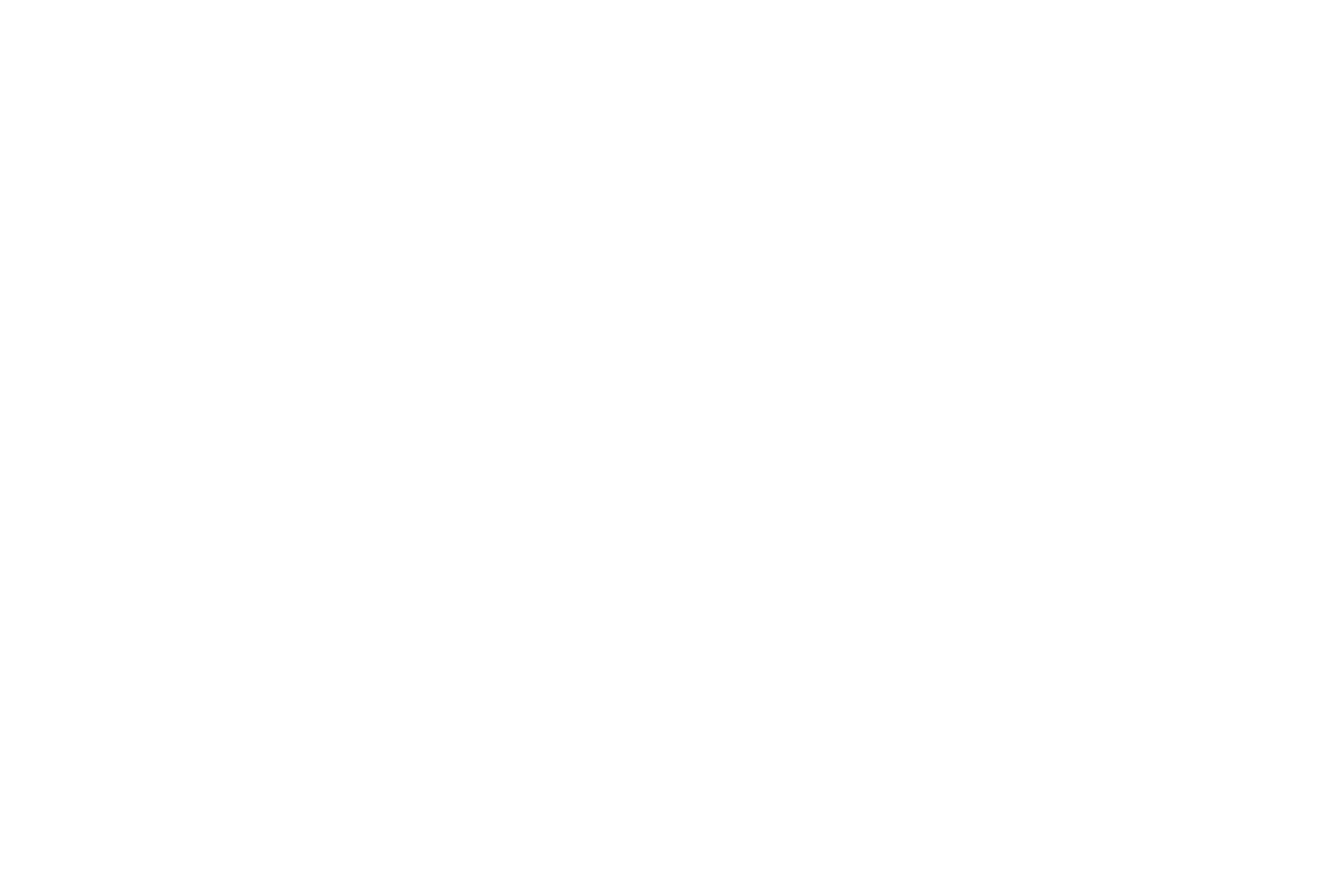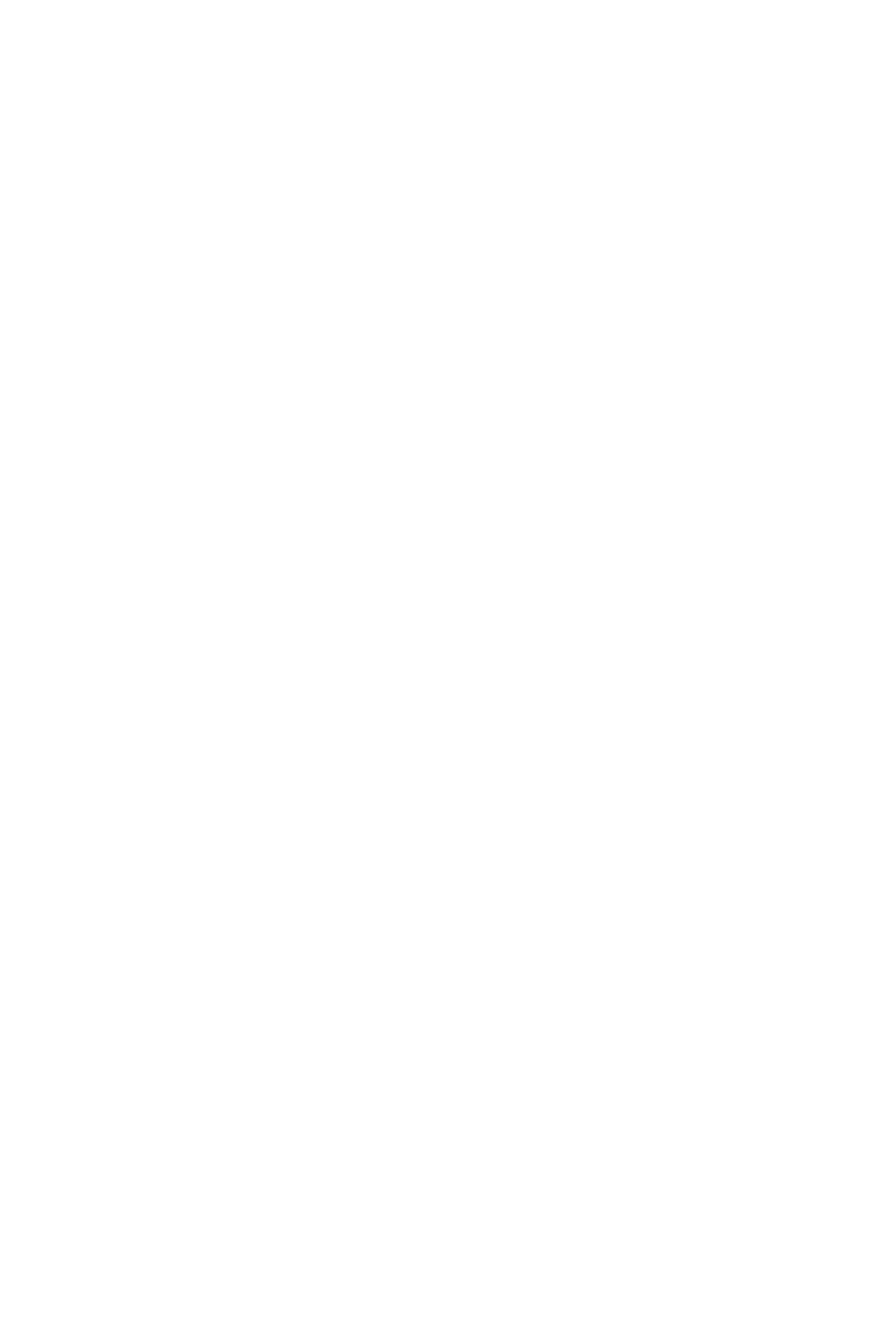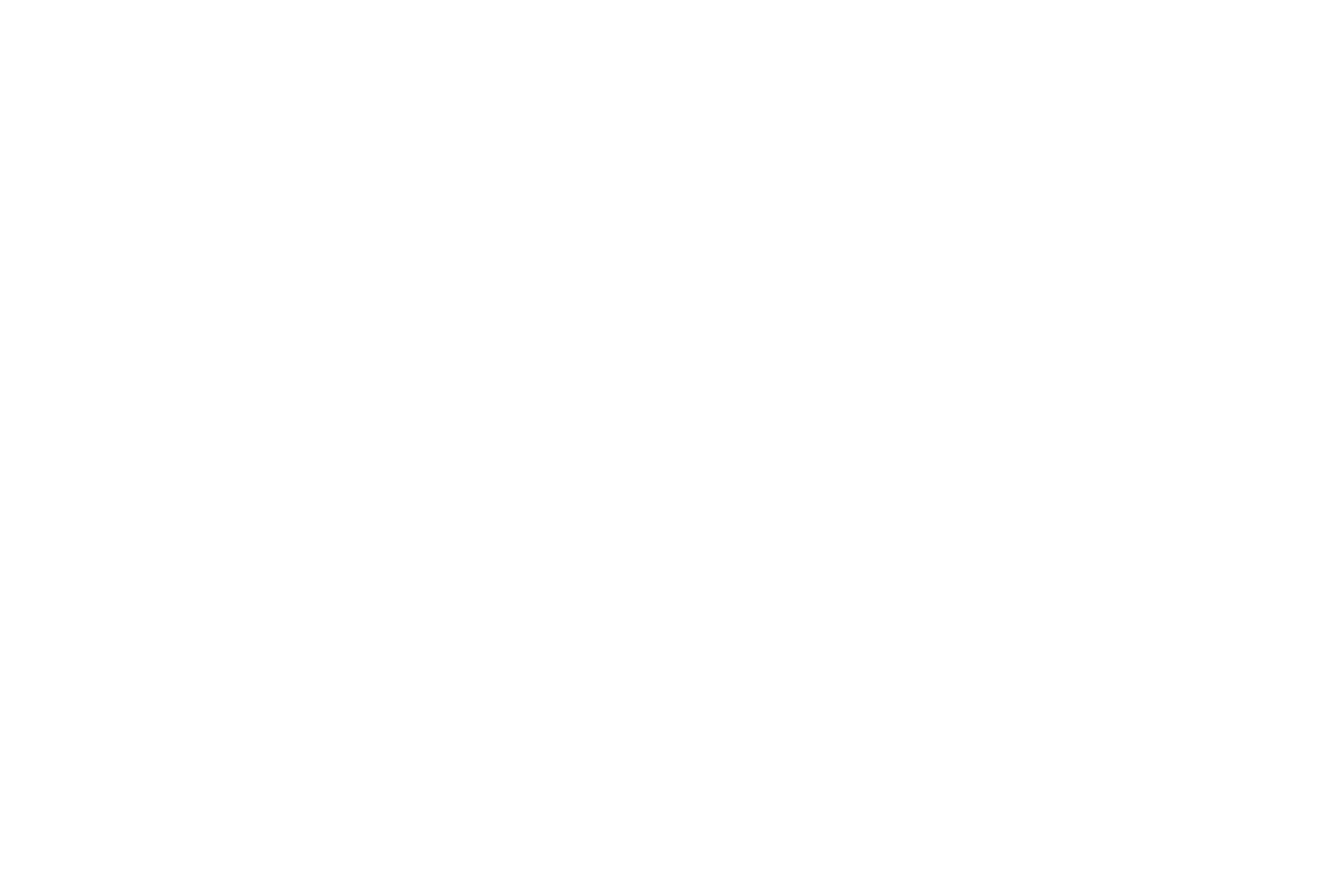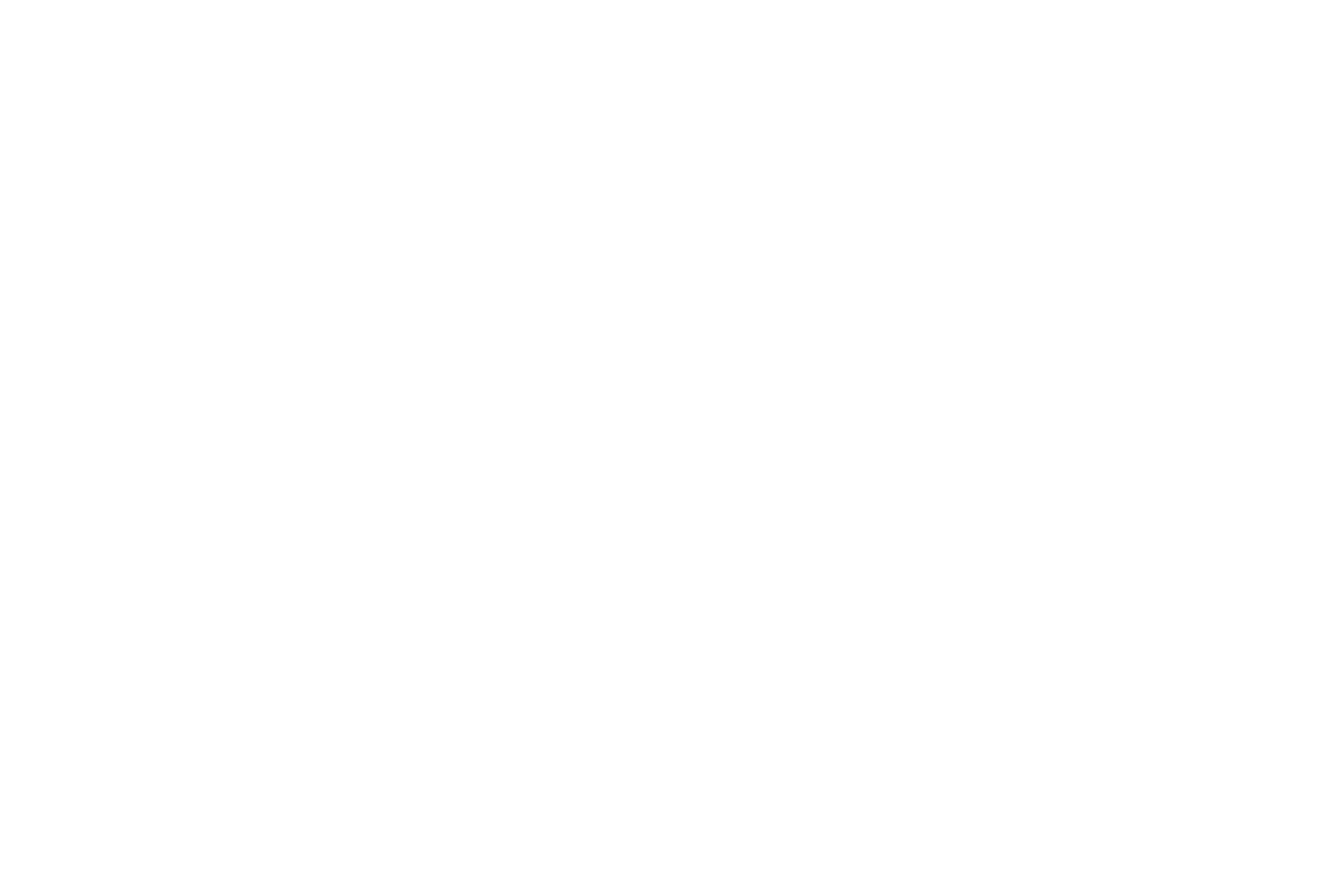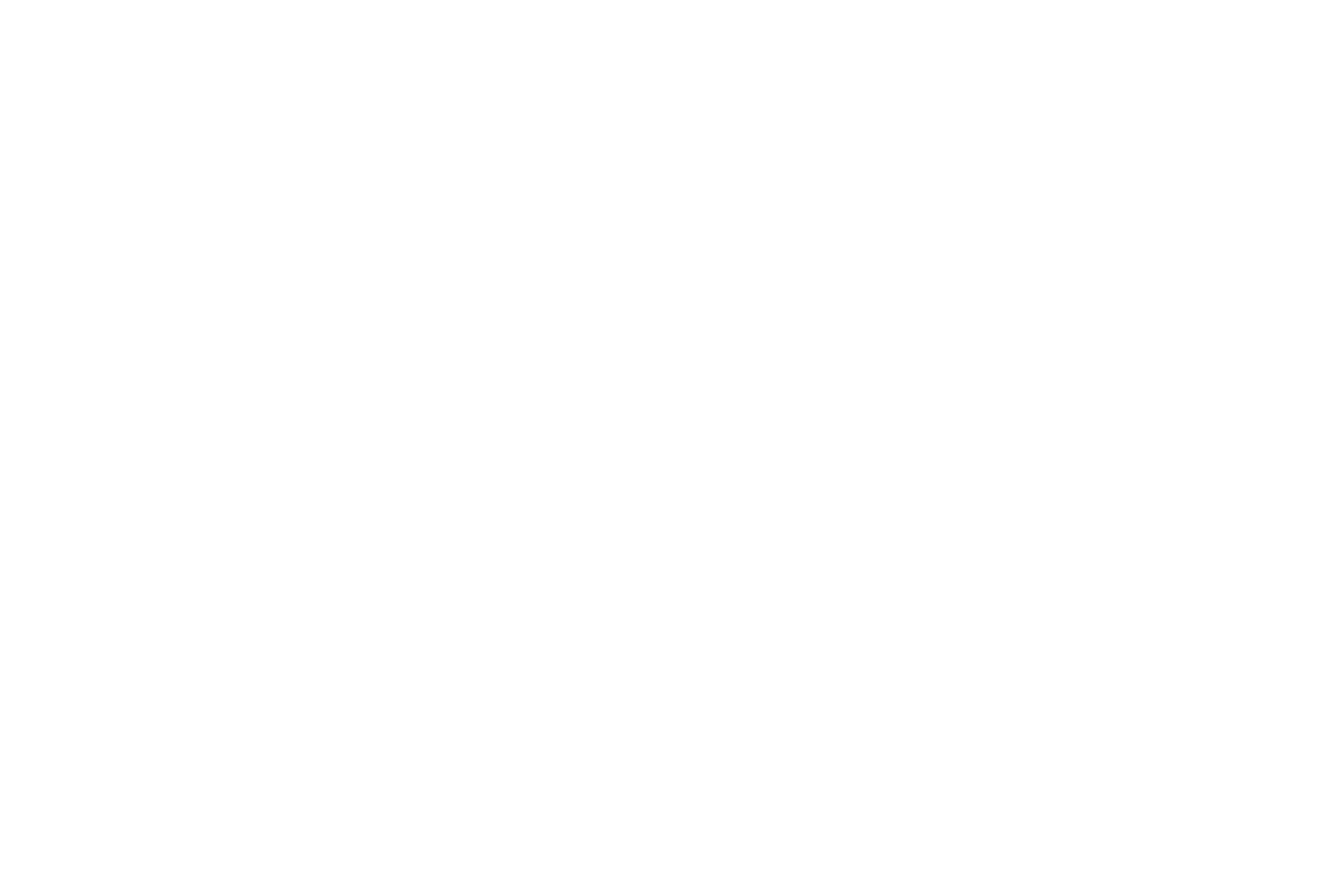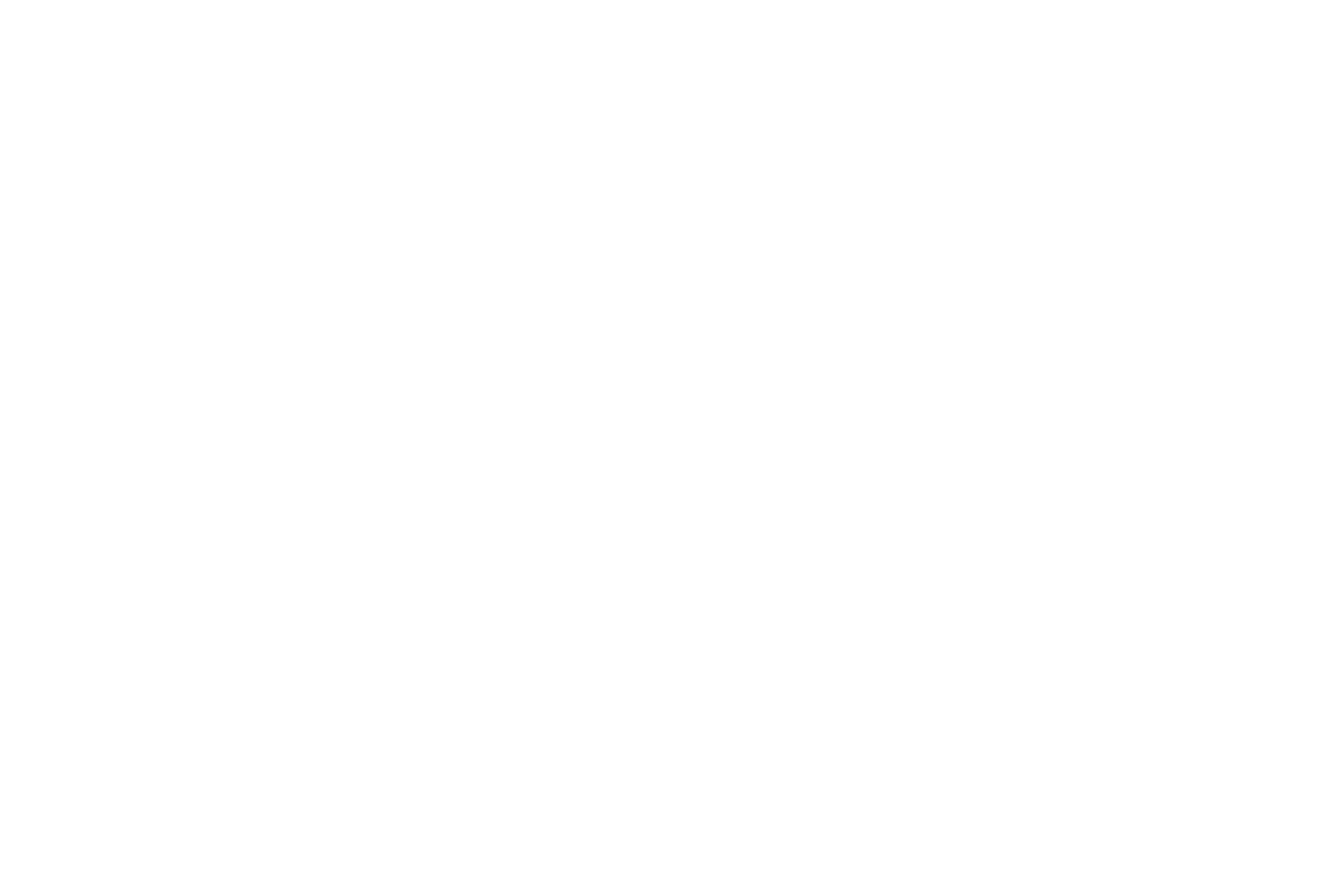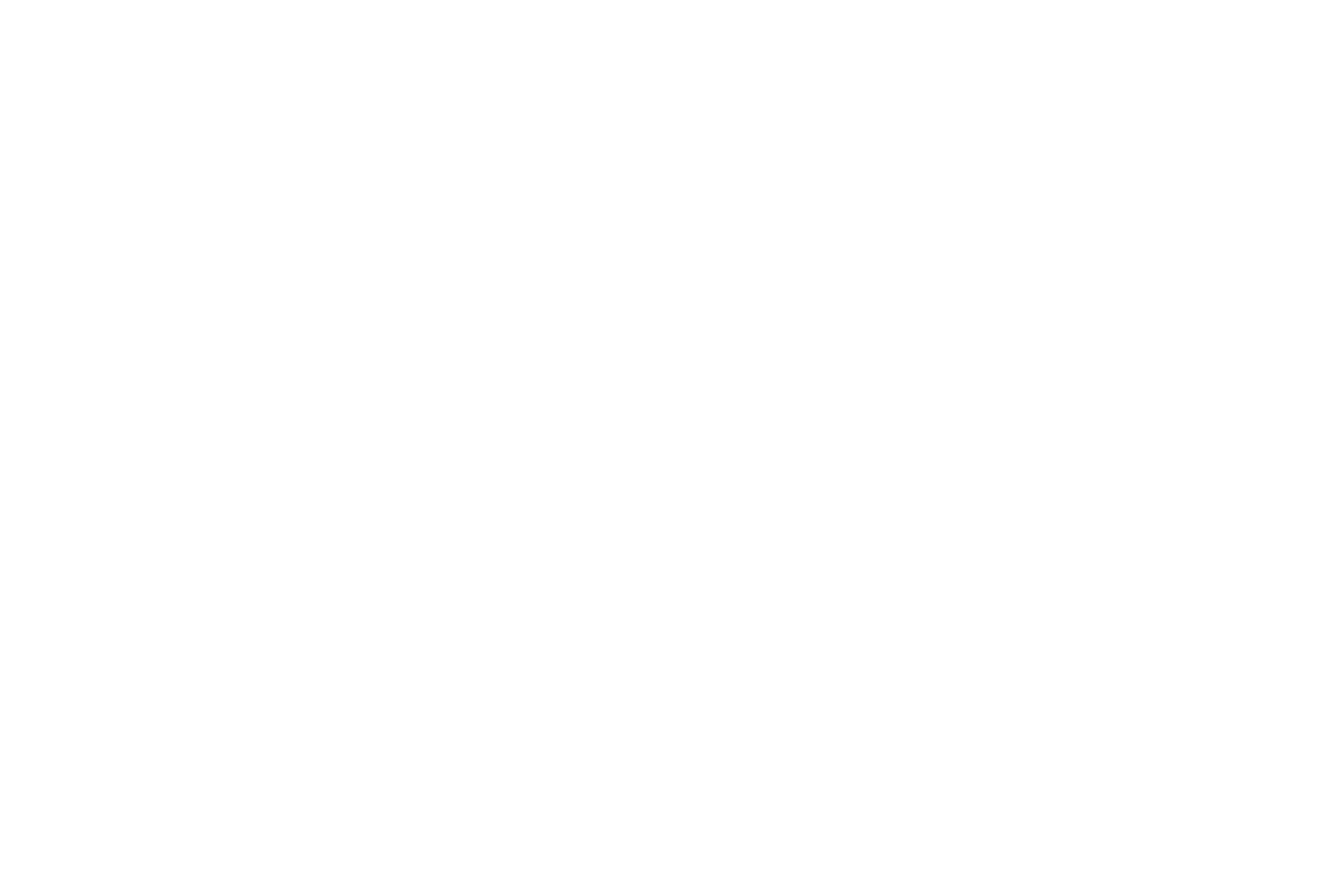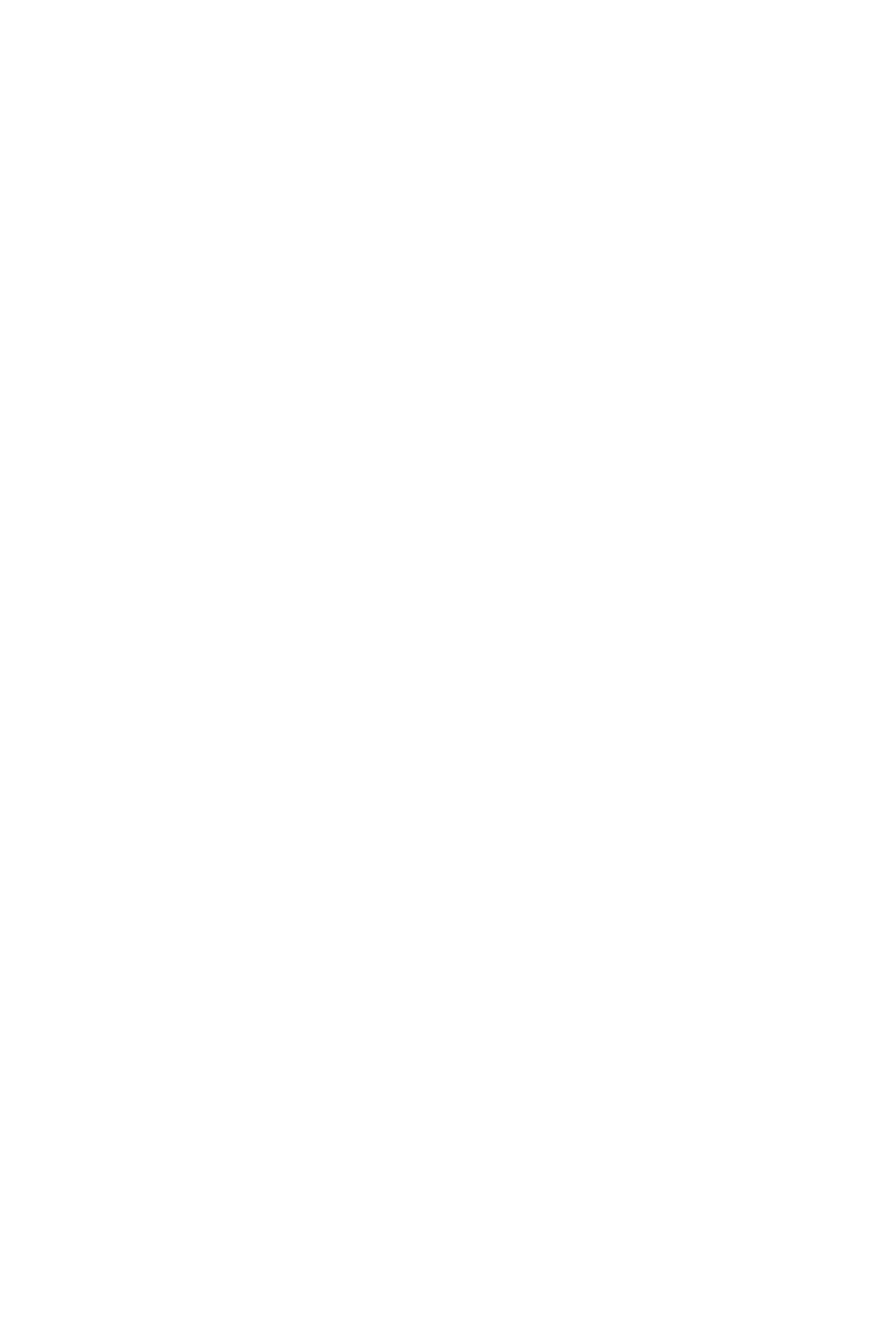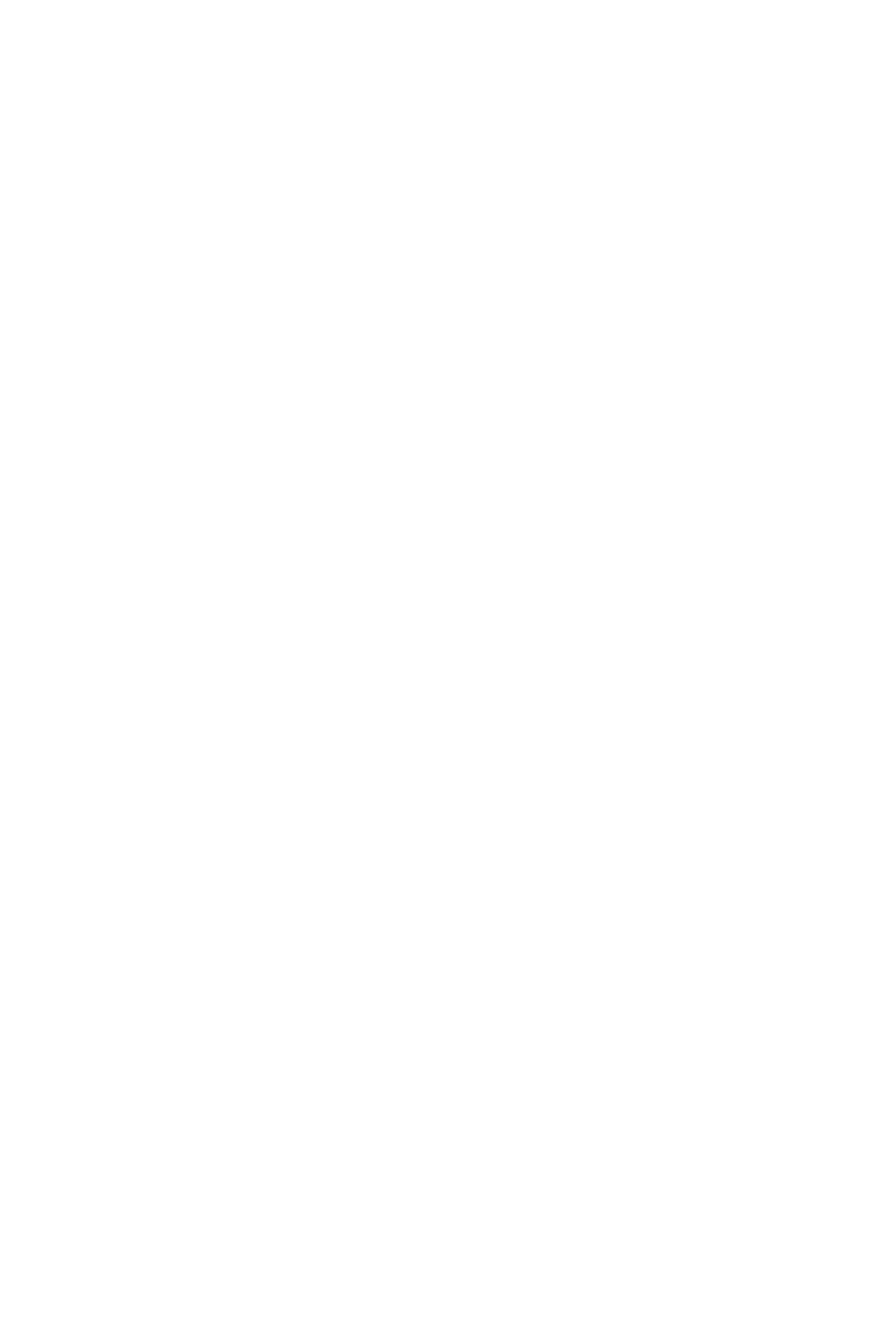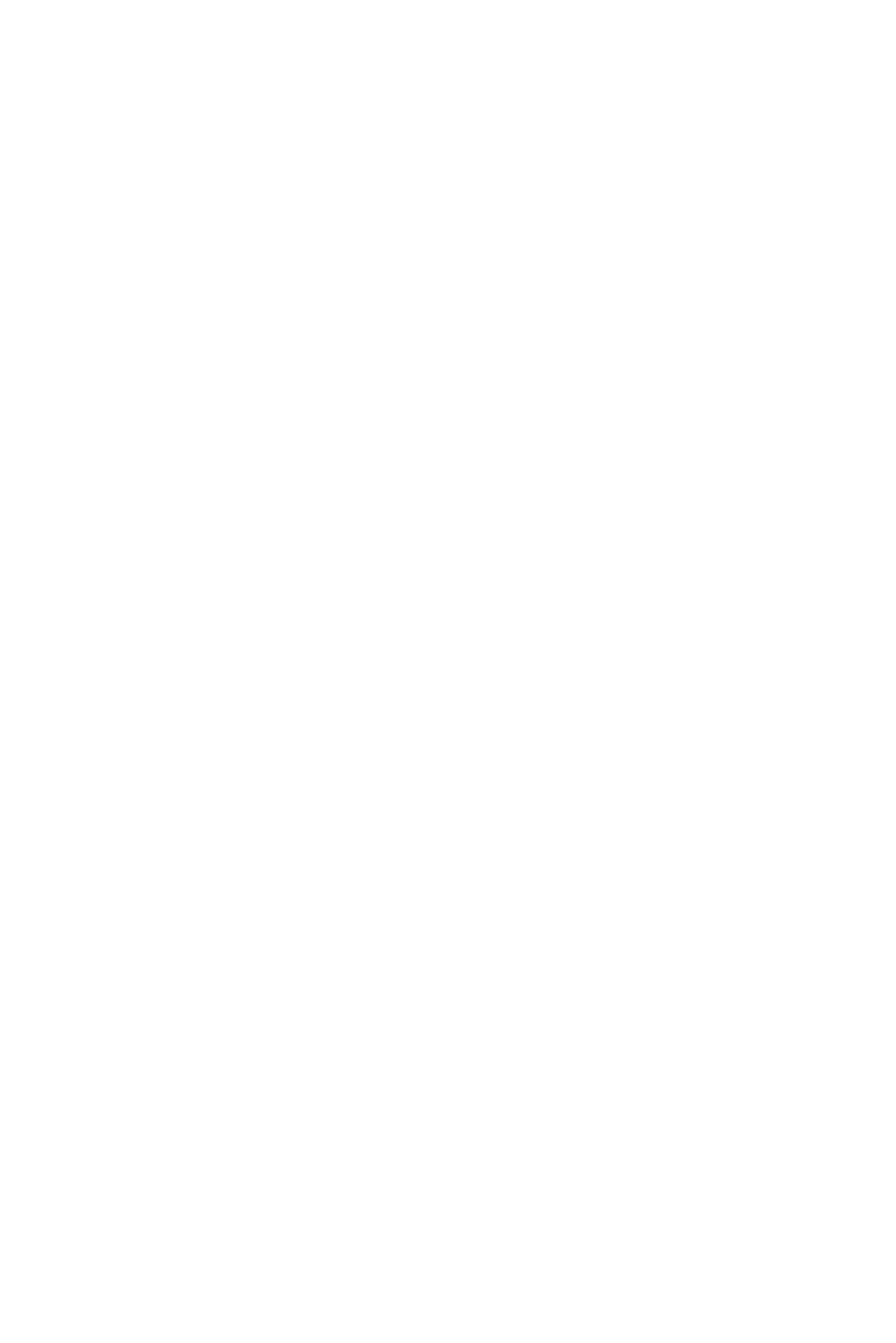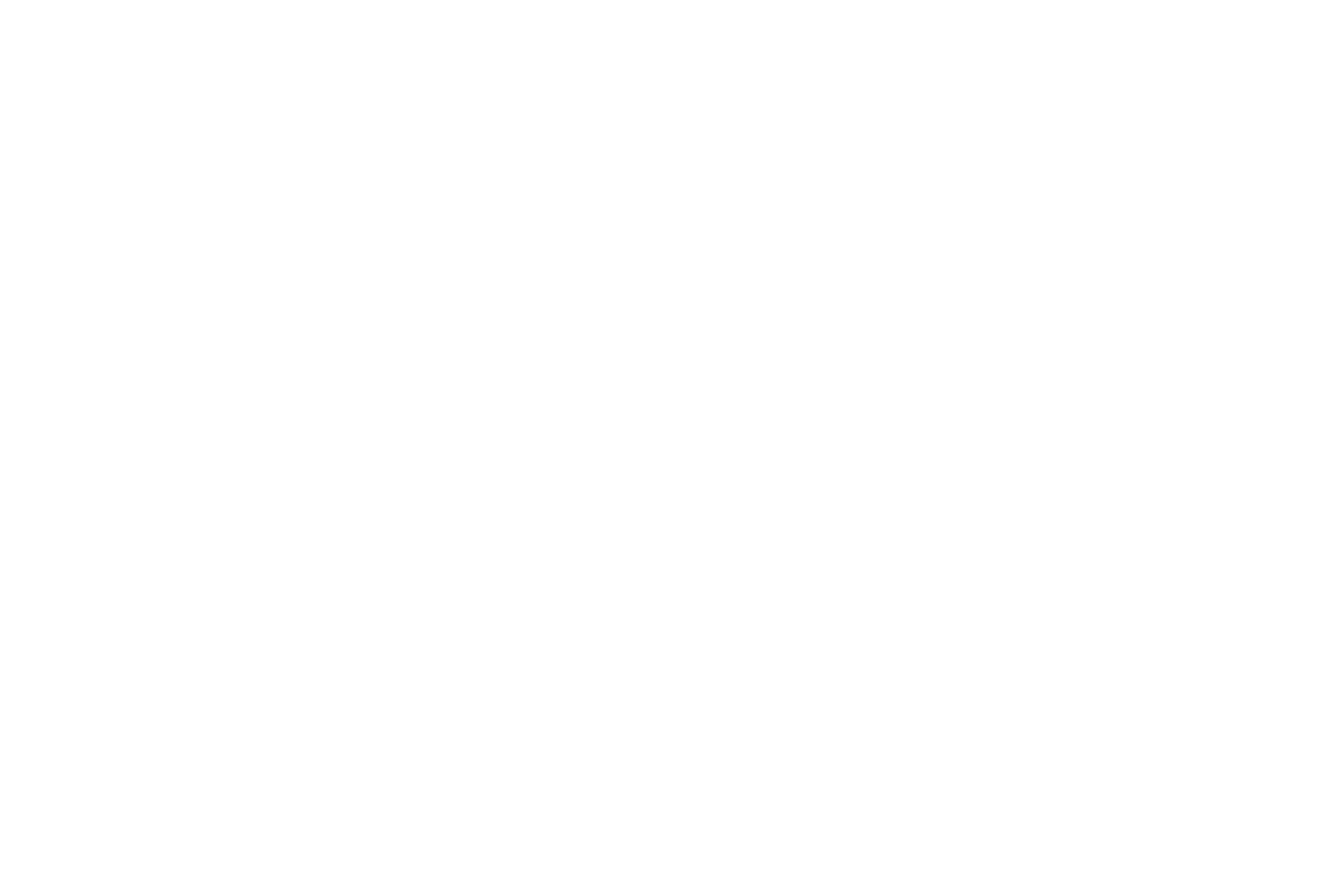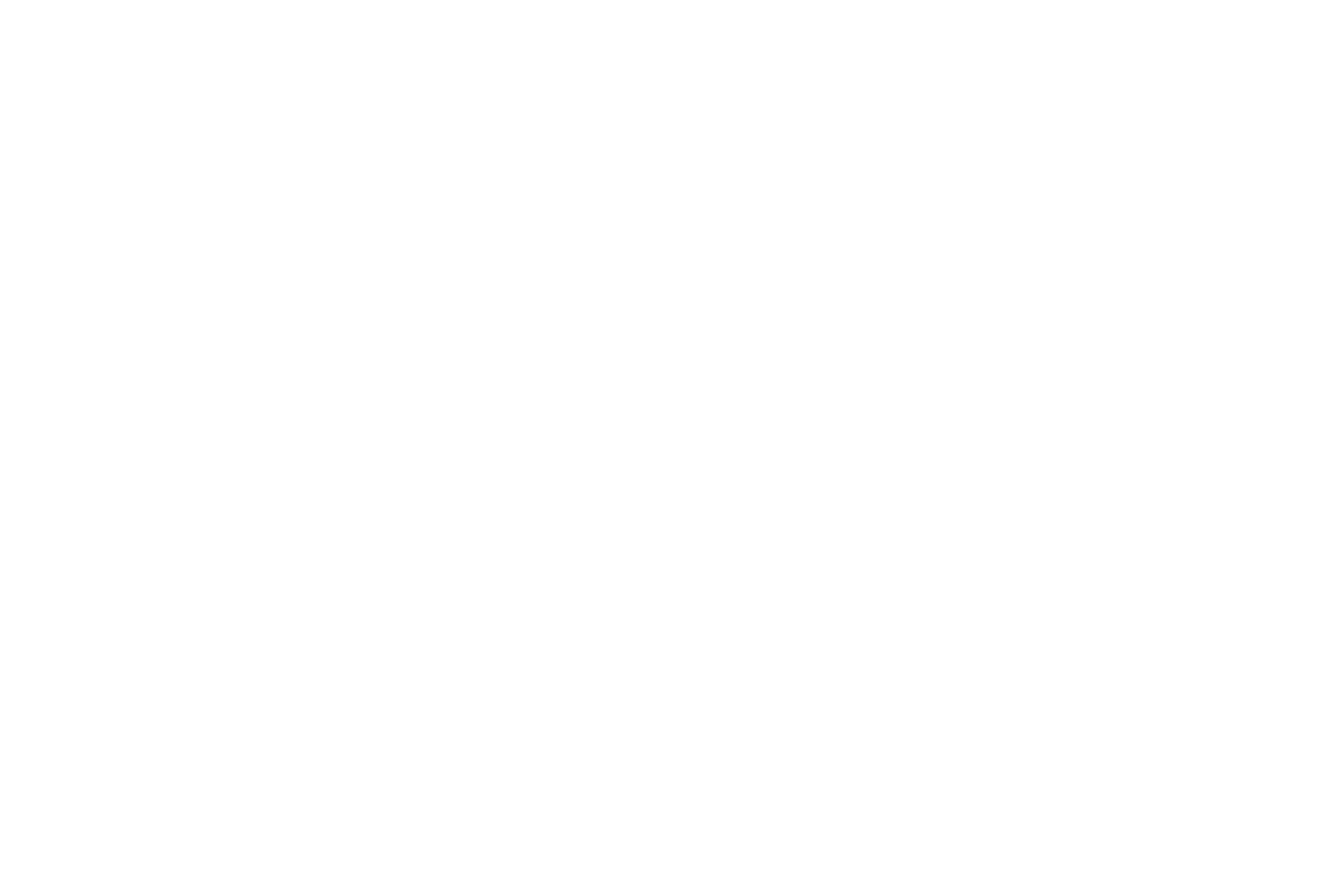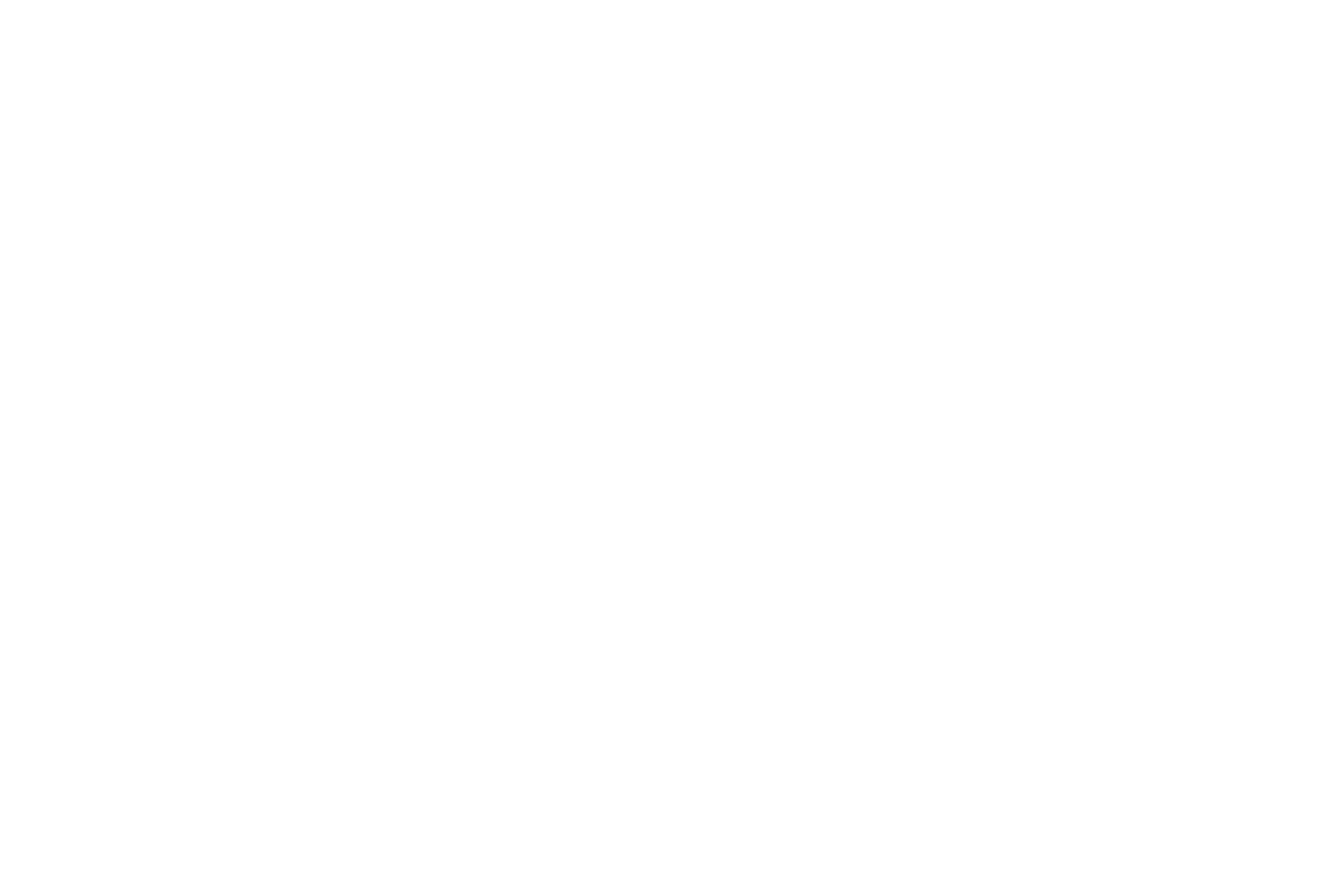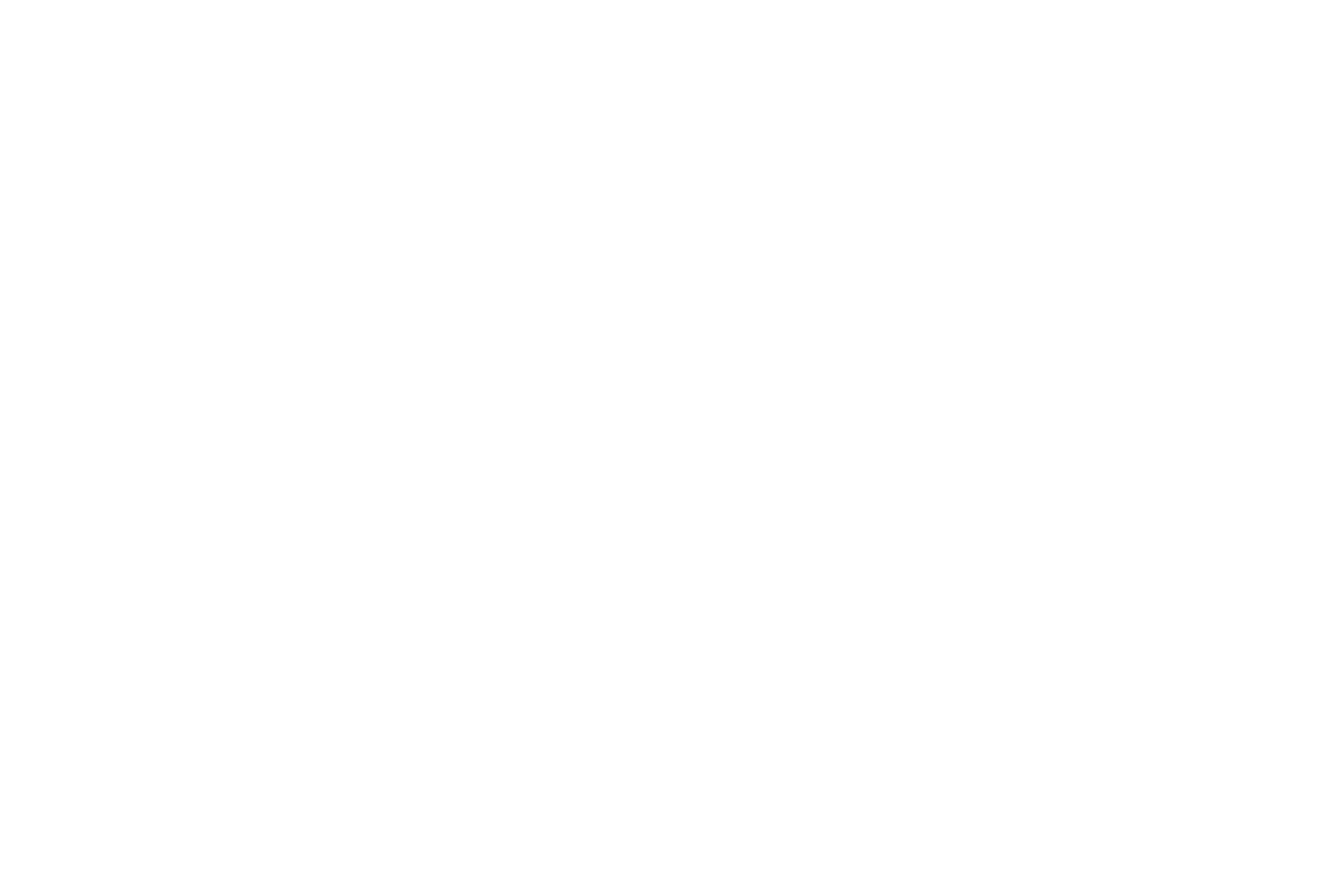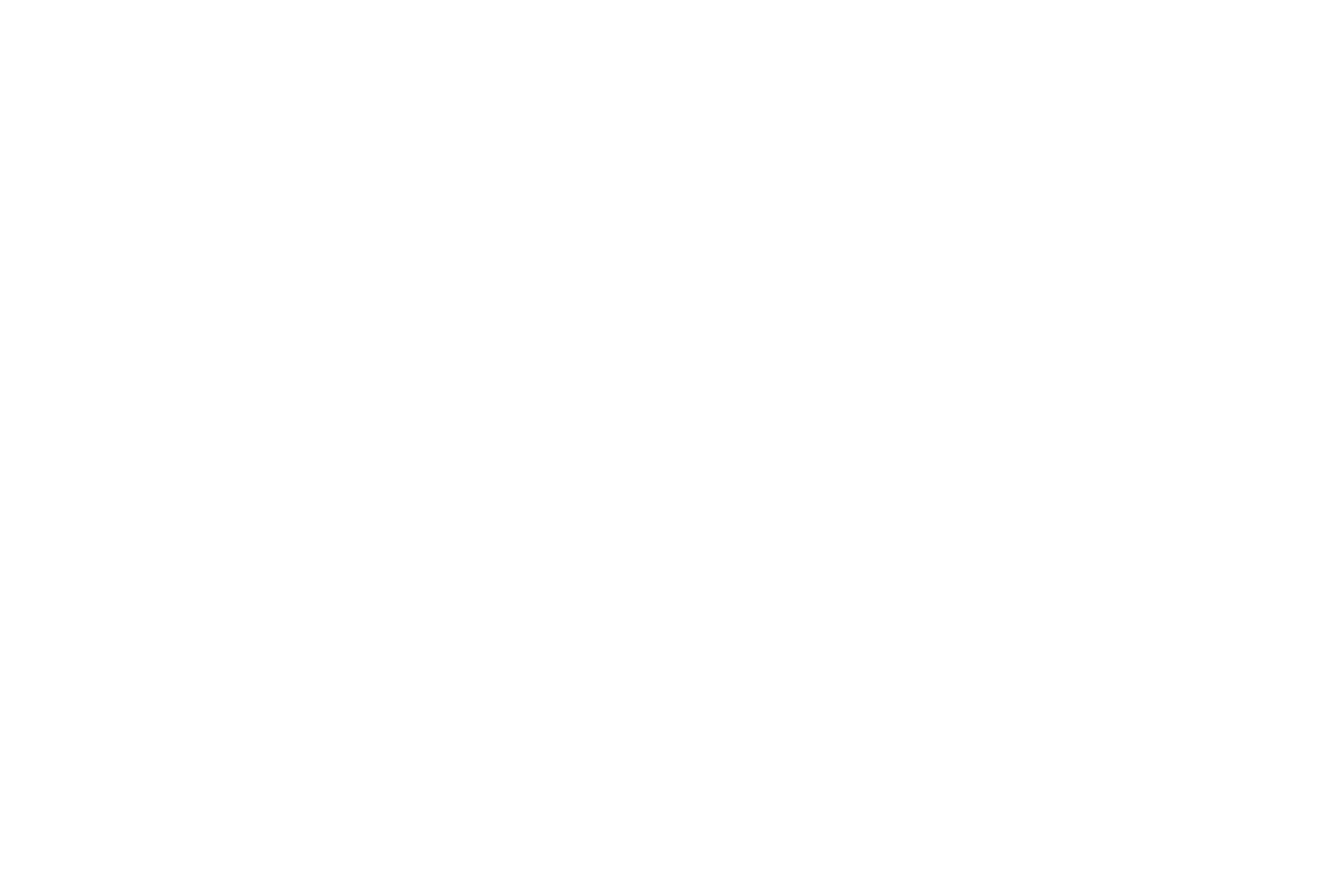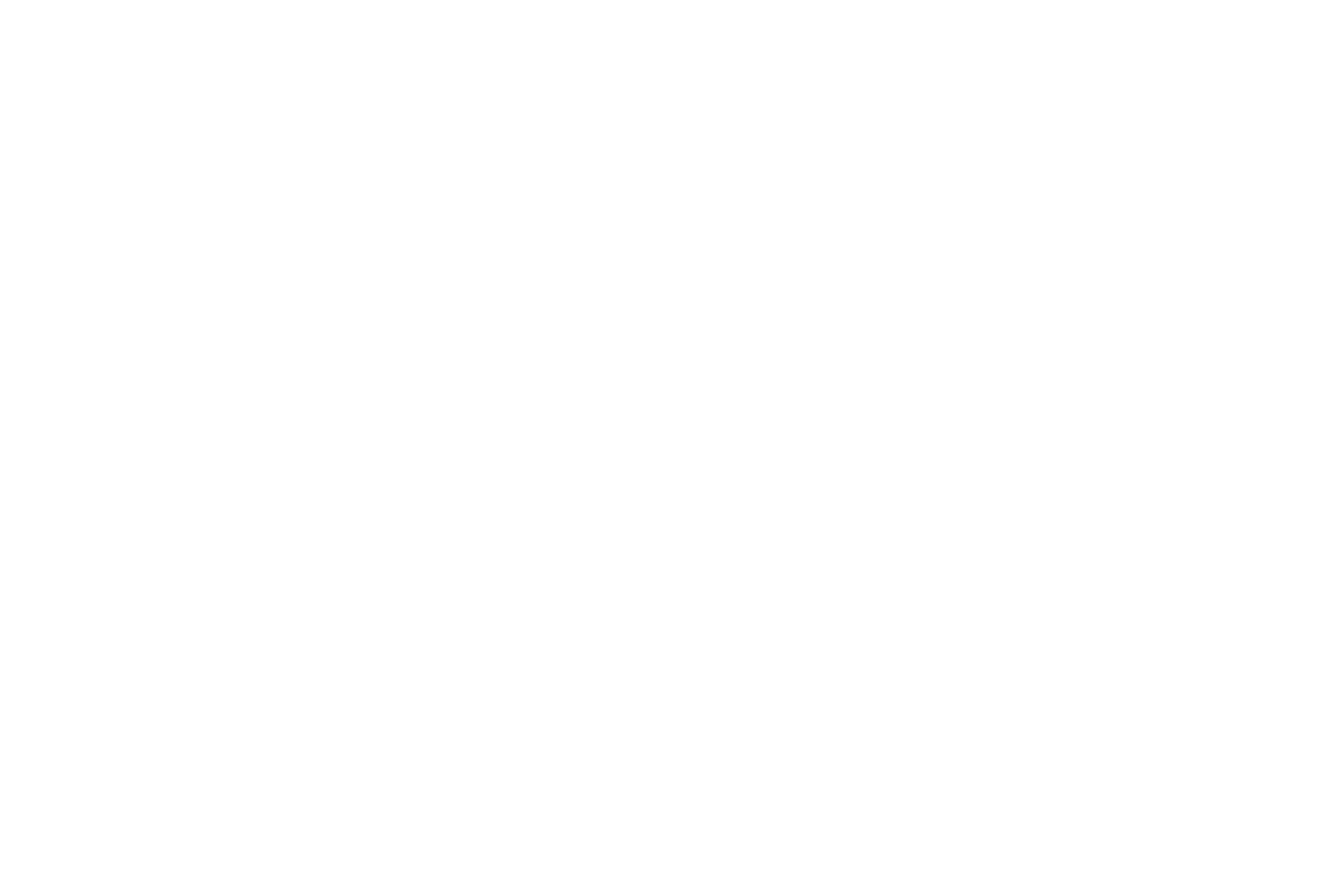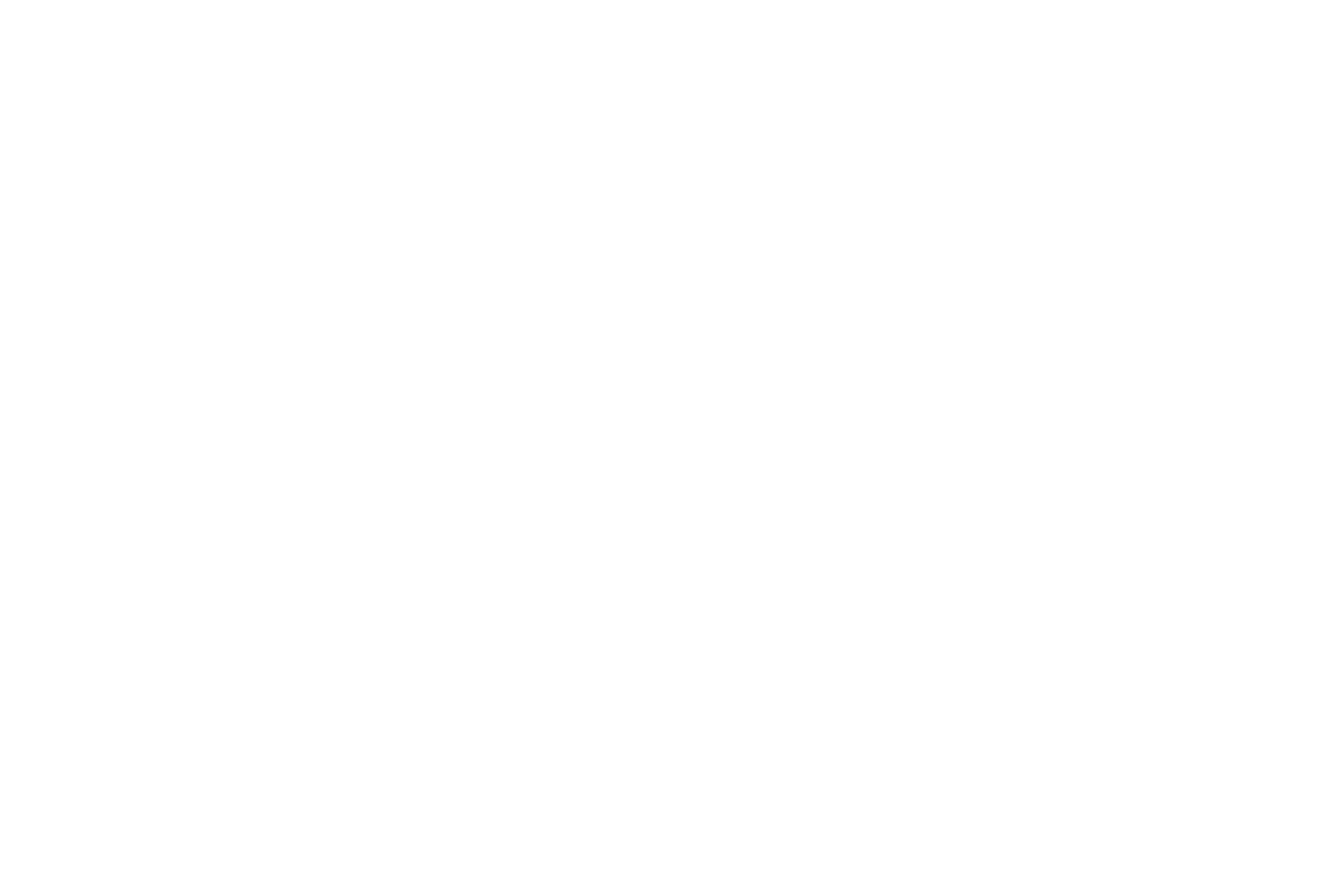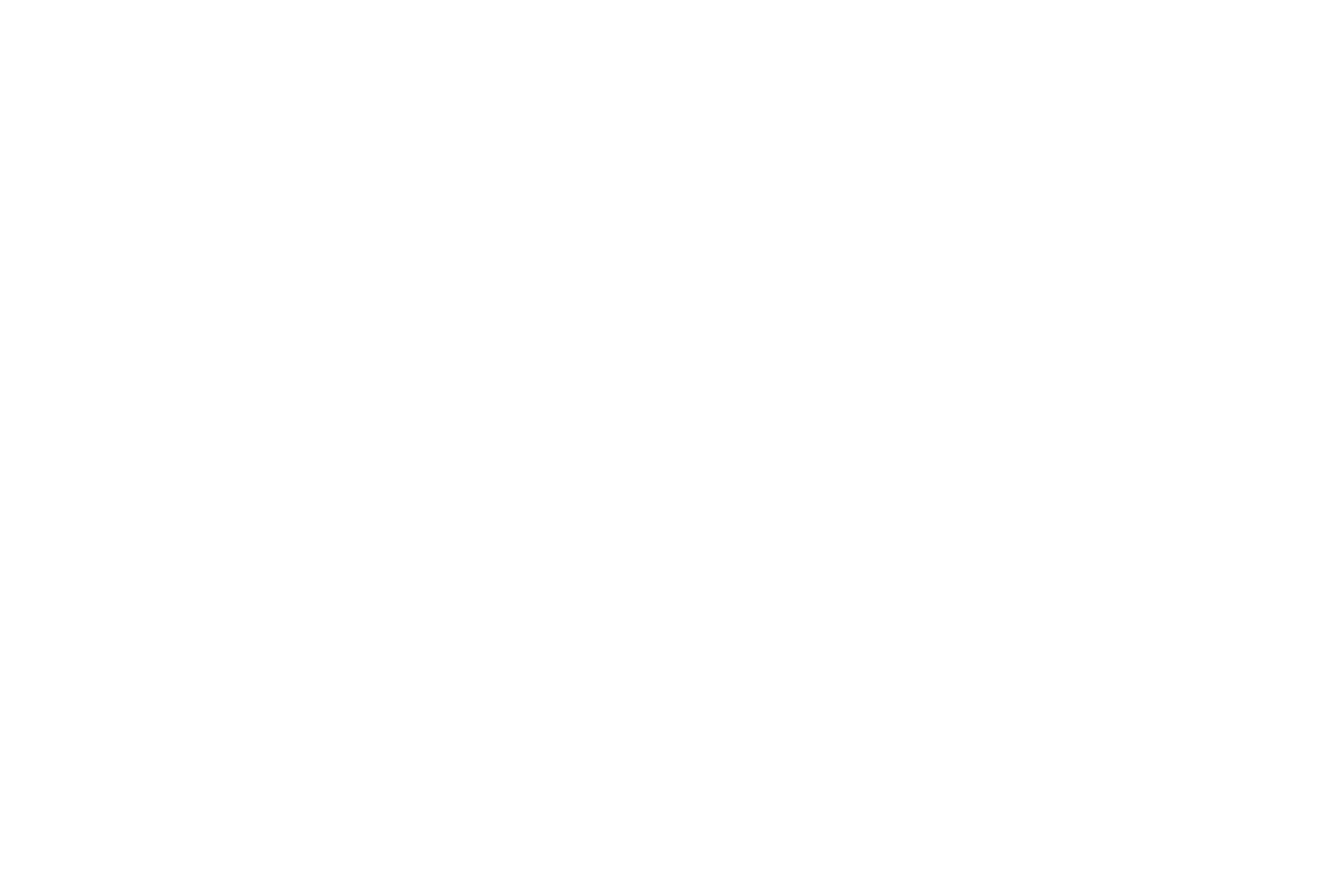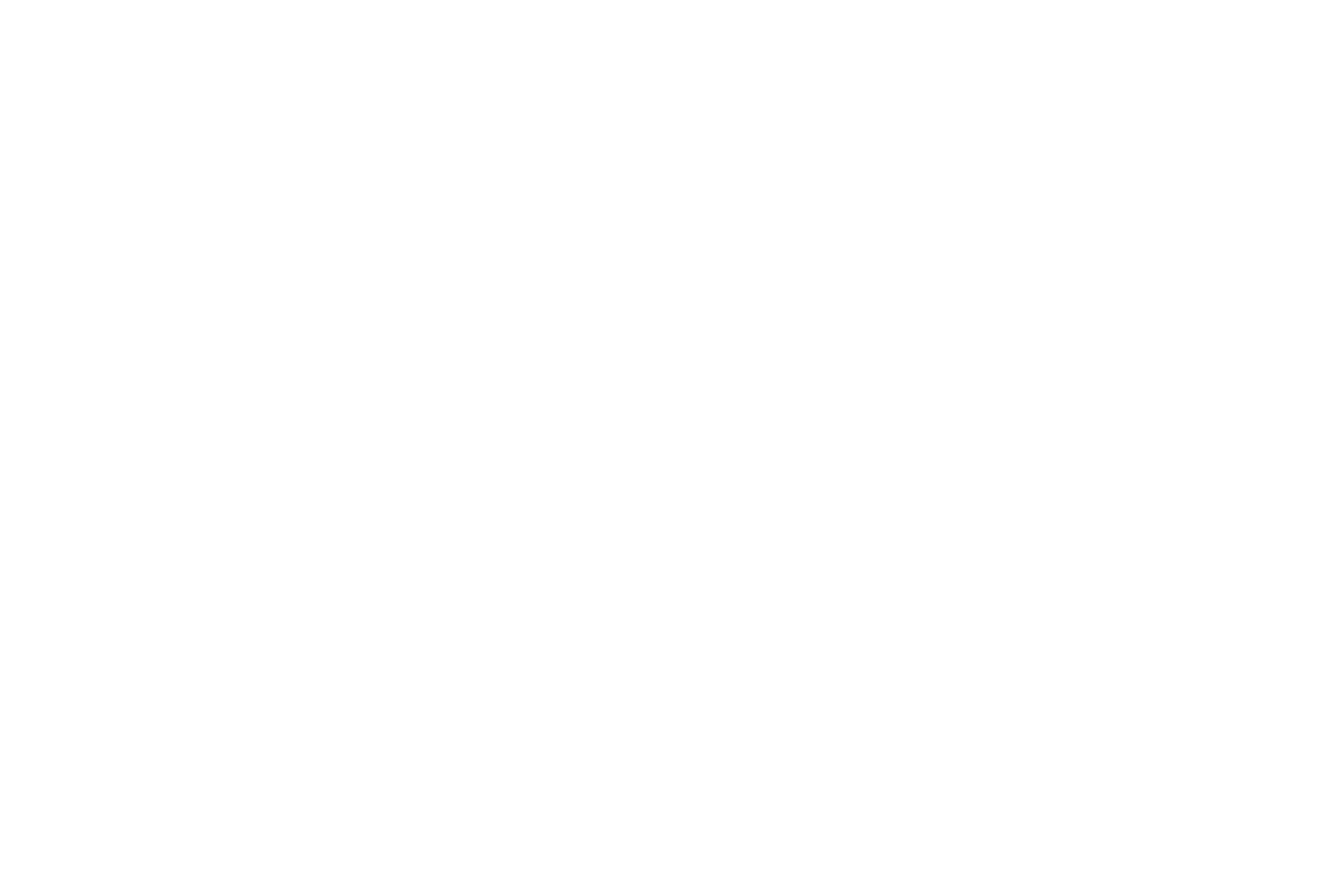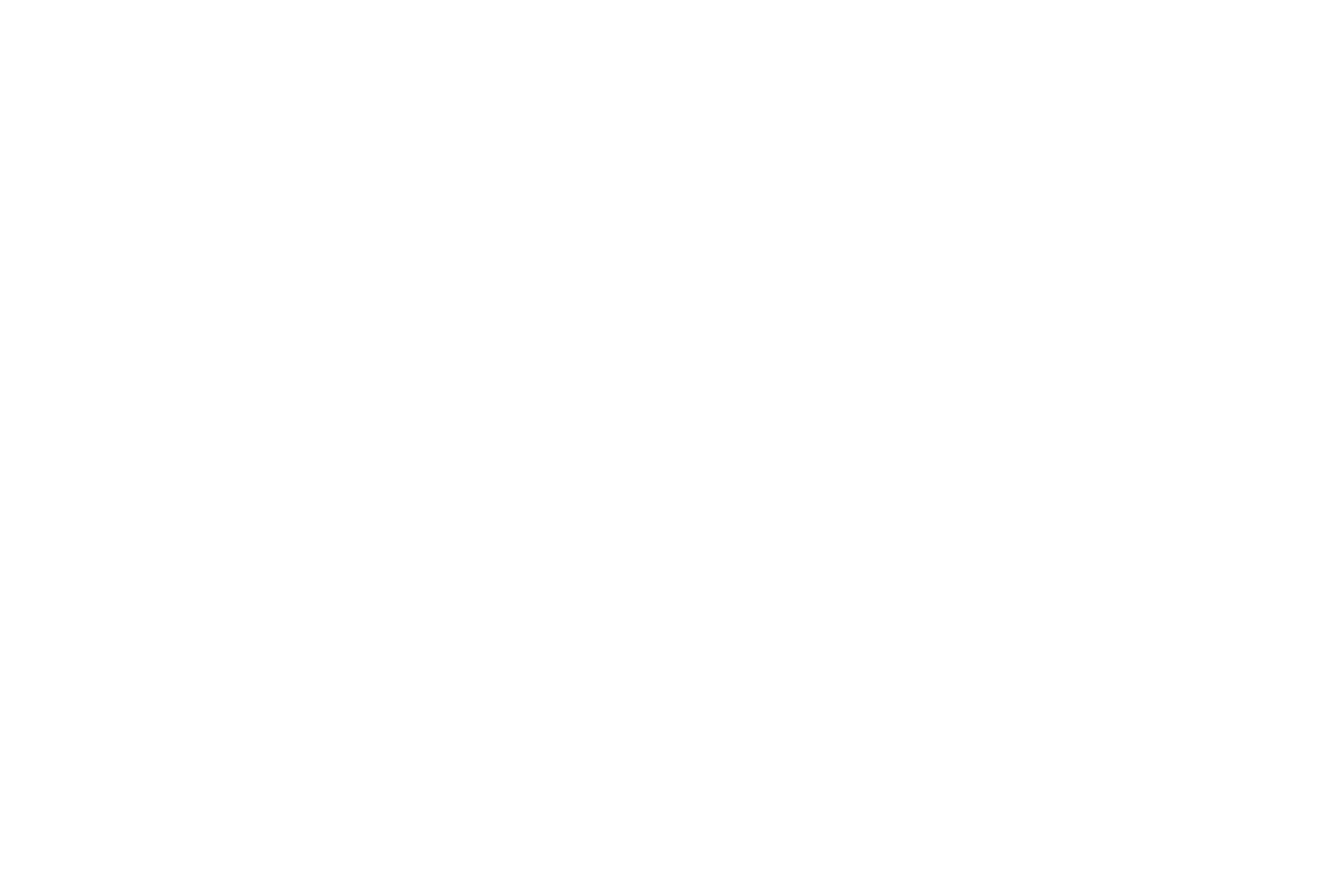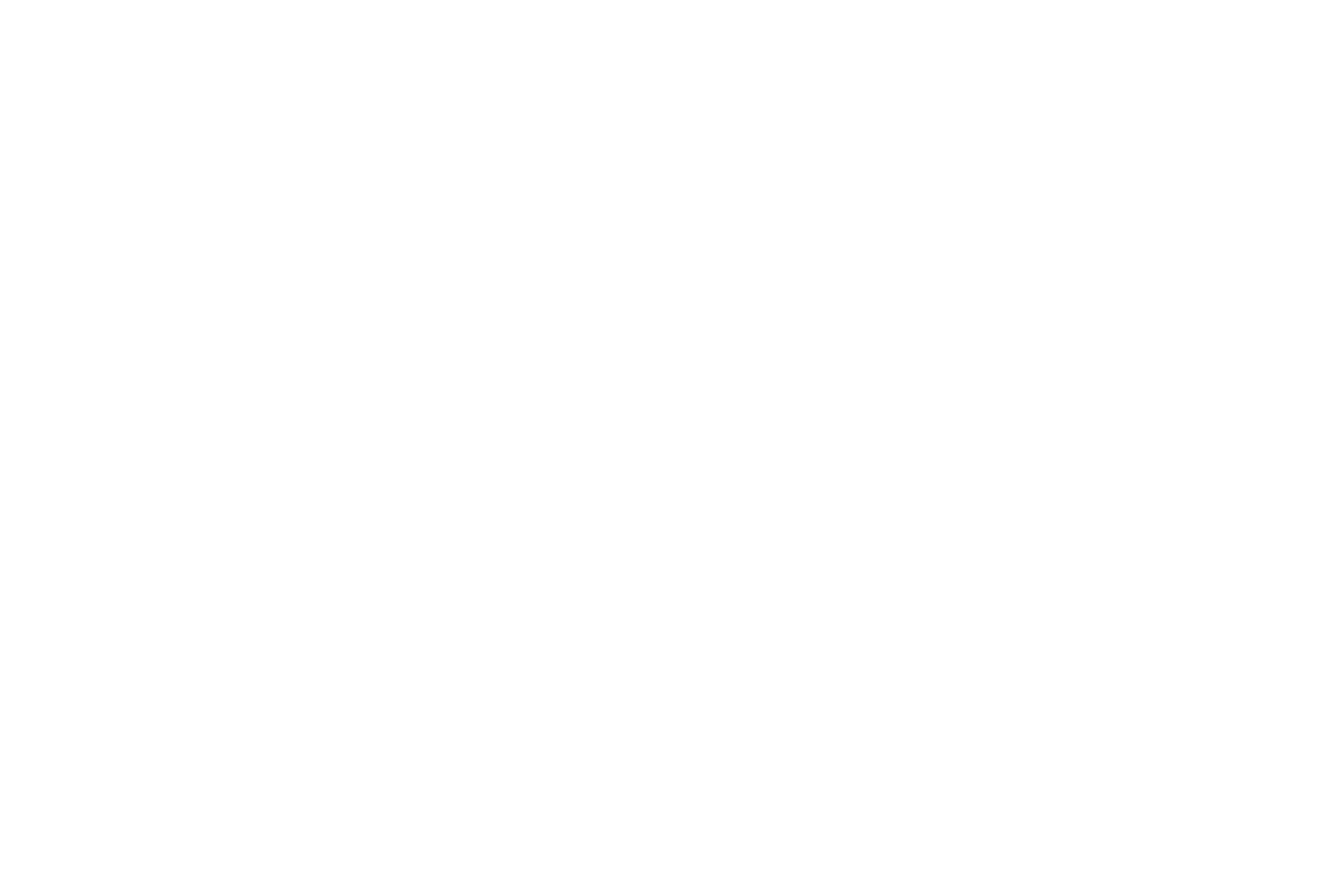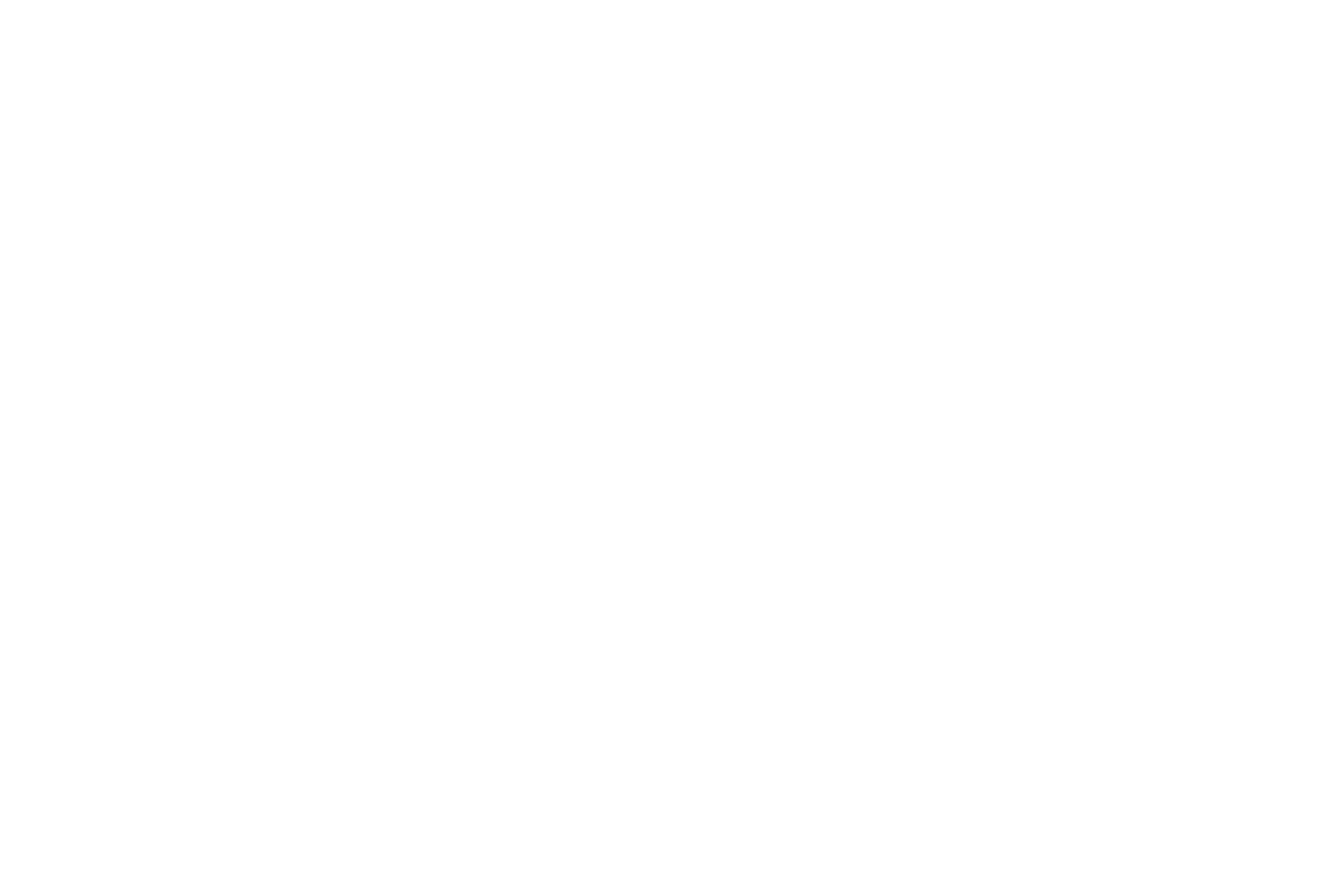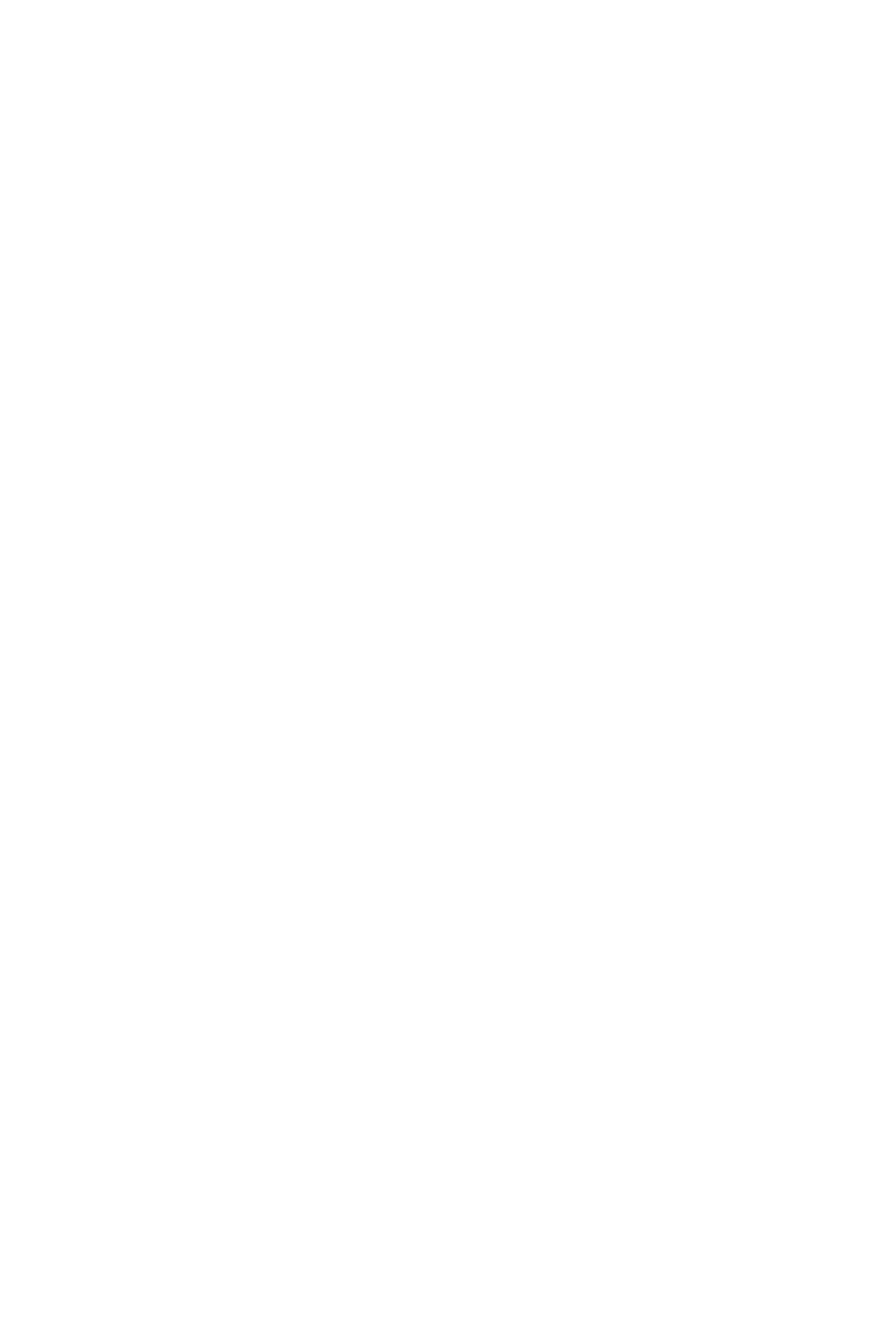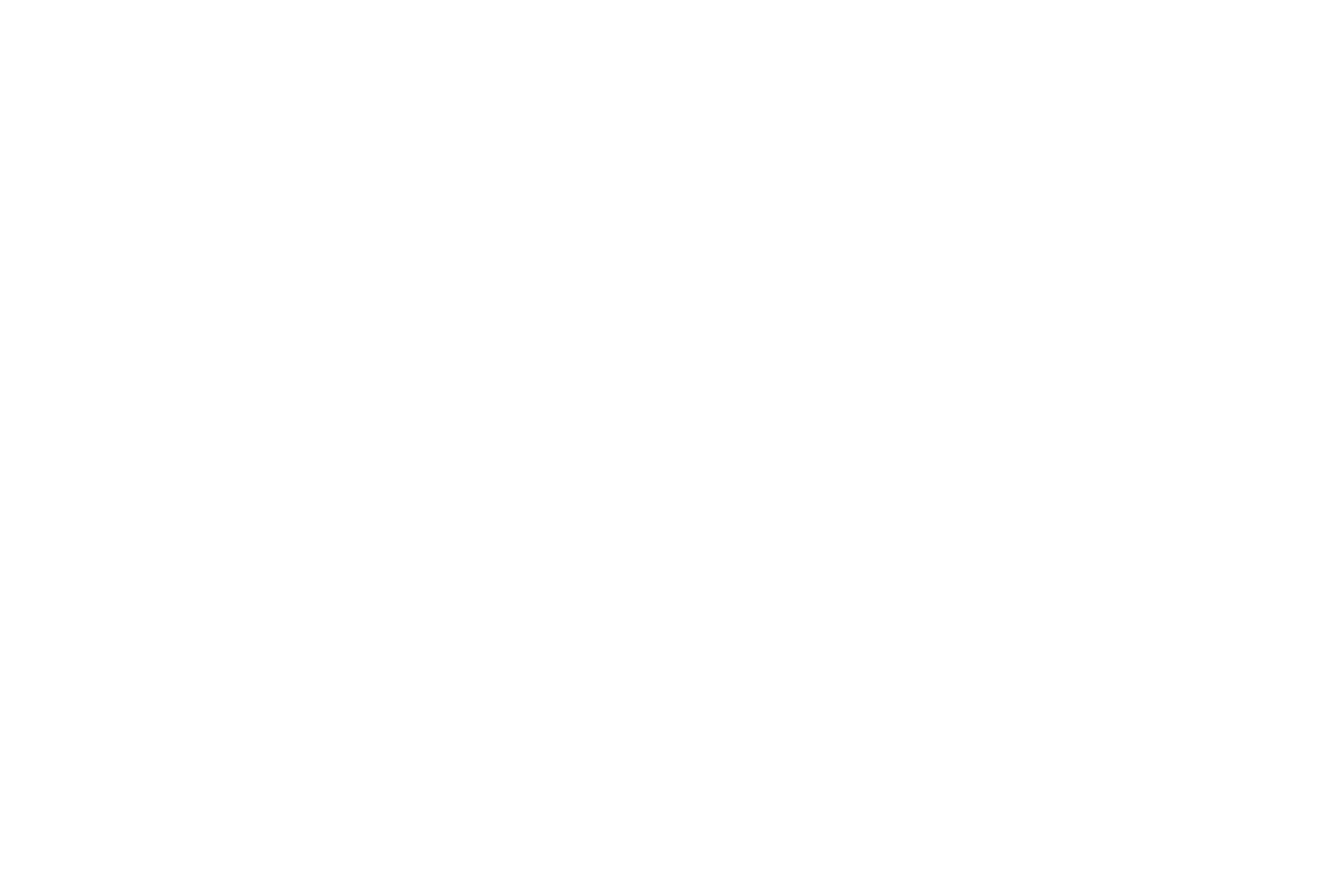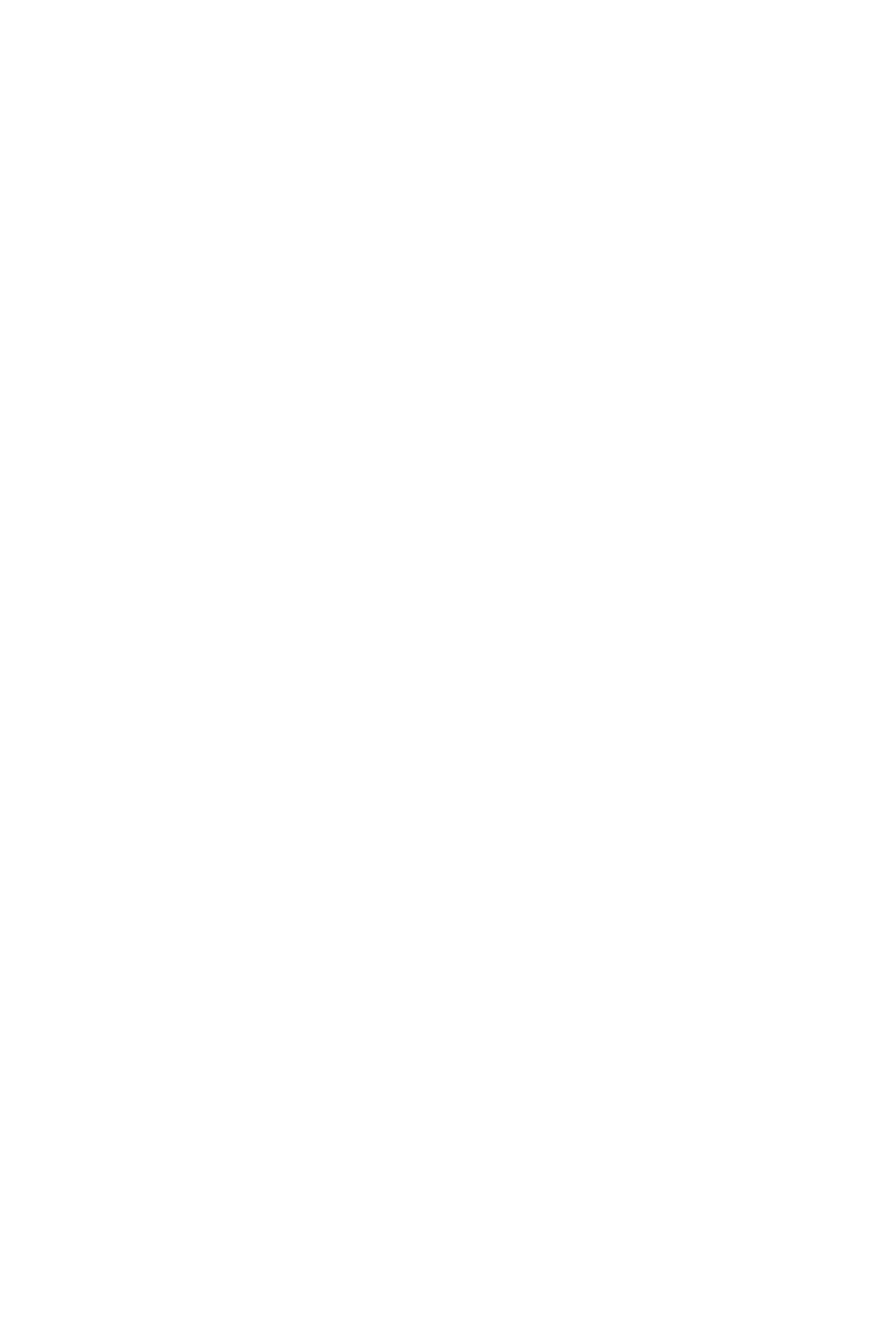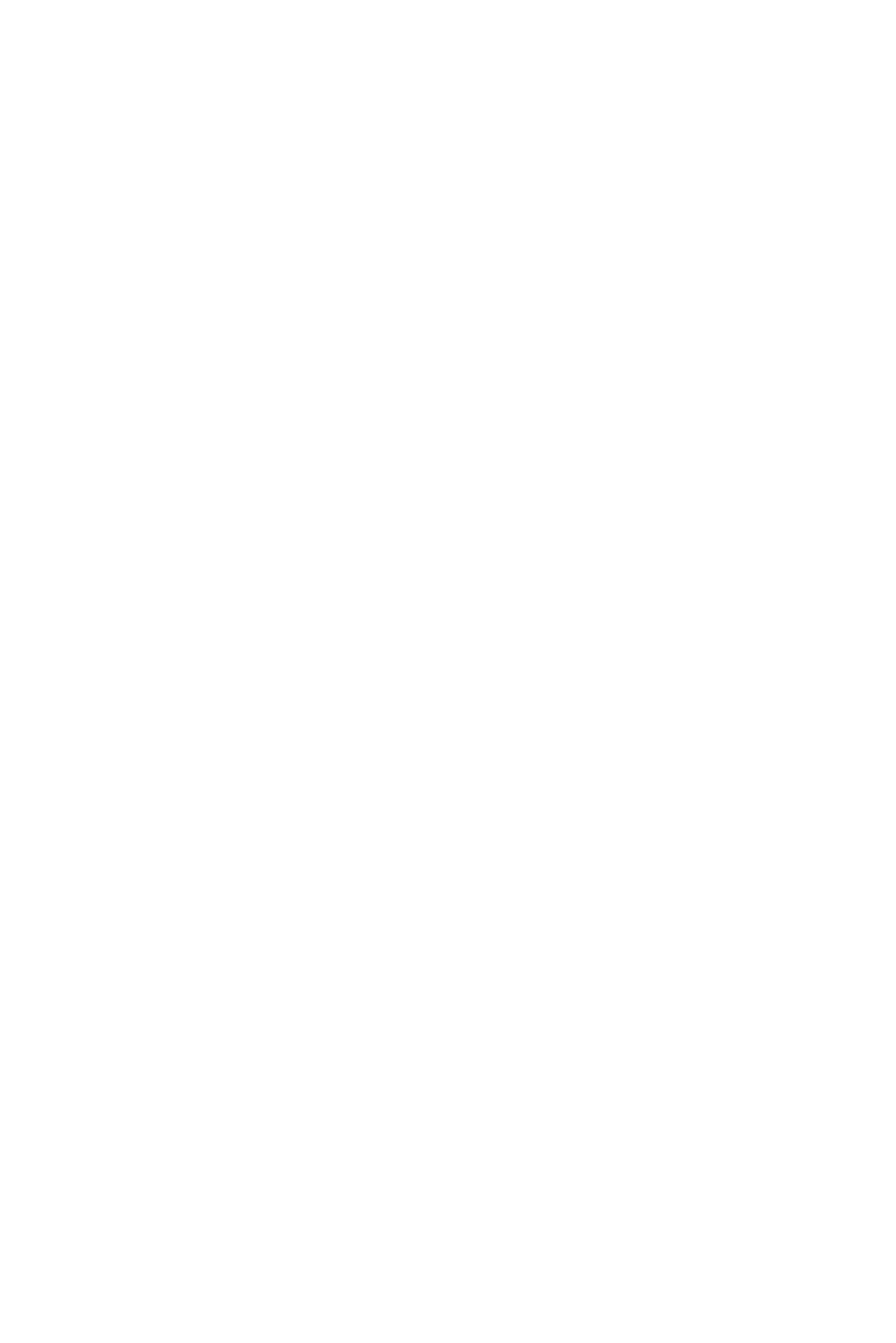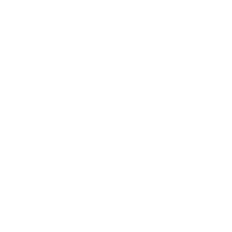Персональная выставка Юрия Александрова
ШКАФ
19.12.2025 – 21.02.2026
НЕСКОЛЬКО ЗАМЕТОК О ТОМ,
ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ХУДОЖНИК ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ
АВТОР ТЕКСТА
ИЛЬЯ КРОНЧЕВ-ИВАНОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2025
о самом Юрие Александрове
Юрий Александров родился в 1949 году в Ленинграде. Отец был биологом, мать — врачом. Тем не менее тяга к искусству появилась у него рано: в пятом классе он стал посещать детскую изостудию при Эрмитаже, где состоялось его первое систематическое знакомство с художественной средой. Однако интерес к выбору творческого пути как профессии поначалу встретил скепсис родителей — в советское время образ художника ассоциировался скорее с бытовой неустроенностью, чем с успешной карьерой. Поэтому Александров первоначально поступил в Ленинградский технологический институт, где обучался несколько лет и почти получил диплом инженера-технолога. Но после 2 курса он понял, что идёт не своим путём, и перевёлся в Педагогический институт имени А. И. Герцена на художественно-графическое отделение, которое окончил в 1973 году. Его учителями стали заслуженный художник Леонид Васильевич Кабачек и выдающийся ленинградский график Герасим Григорьевич Эфрос, чьи педагогические методы и внимание к рисунку оказали существенное влияние на раннее формирование Александрова как художника.
После выпуска, с 1974 по 1995 год, Александров работал книжным дизайнером в издательстве «Просвещение» — крупнейшем в СССР учебно-педагогическом издательстве, выпускавшем по всей стране учебники, учебные пособия, методическую и художественную литературу. Специализацией Александрова стали буквари и учебники для народов Крайнего Севера и Дальнего Востока. Именно из этой работы художник почерпнул многие визуальные мотивы, которые позднее использовал в своих независимых художественных проектах, большинство из которых принимали форму книжных объектов. Параллельно он сотрудничал с другими издательствами — как с отечественными (ЭКСМО, НЛО, Издательство Ивана Лимбаха), так и с зарубежными (Kannibal и Vandkunsten в Копенгагене, Шварц-Регенера в Гамбурге), а также с журналами. Например, на протяжении 10 лет в 1980-е годы создавал фантасмагорические комиксы о советских школьниках для журнала «Костёр».
С 1996 года Александров занимает должность главного художника издательства «Академический проект». Одновременно его художественные книги экспонировались на персональных и групповых выставках в России и неоднократно — в Германии. В первой половине 2000-х годов он активно сотрудничал с галереей Navicula Artis, где представлял свои работы на экспериментальных персональных выставках (которые, например, длились всего один день или несколько часов), а также инициировал концептуальные кураторские проекты. В 2008, 2010 и 2011 годах персональные выставки Александрова проходят в галерее Anna Nova. В эти же годы он становится заметной фигурой институциональной художественной сцены Петербурга, активно участвуя в групповых выставках Государственного Русского музея. В 2014 году он принимает участие в биеннале современного искусства Manifesta. С 2018 года сотрудничает с NAMEGALLERY, в которой в 2025 году проходит его выставка «ШКАФ», отчасти носящая ретроспективный характер.
о книгах
Начиная с 1974 года практически вся профессиональная жизнь Юрия Александрова связана с книгой — её визуальностью, структурой и материальностью. Неудивительно, что именно книга становится главным объектом его концептуального интереса: художник относится к ней одновременно с любовью и навязчивой привязанностью. В предперестроечные годы застоя, с 1978 по 1985, Александров создаёт свои первые самостоятельные художественные работы, и ими, как ни парадоксально, оказываются книги — но уже не заказные, а сделанные независимо и по внутренней необходимости. По словам художника, он начал их делать «от бешенства», когда работы почти не было, а потребность действовать становилась нестерпимой.
Эти первые «книги художника» Александрова радикально отличаются от того, что он делал на заказ как оформитель и дизайнер: они сделаны из «бедных» материалов — картонных обложек, обтянутых тканью, и страниц из нарезанных афиш или обоев. В дело идут и найденные в типографии «Лениздата» клише, которые использовали для производства учебников и букварей. Содержательно эти ранние «книги» представляют собой сборники коротких историй в картинках: ненецкий охотник, рассказывающий о богатыре Япа и великанше Мерген; шофёры — герои эротических триллеров; воздушные бои, происшествия в институте мозга, приключения зайцев, случаи в музеях-квартирах и др. В этих рассказах советская визуальность становится основой для странных, порой философских нарративов, раскрывающих абсурд и идиотизм позднего застоя.
В 1990-е практика кустарного создания «странных» книг продолжается. В 1993 году Александров создаёт самый настоящий комикс. Литературная основа этого комикса — беседы Гёте и Эккермана, фигуры которых художников рисует в пространствах советских и немецких открыток XX века. Контрасты контекстов провоцируют неожиданные символические комбинации.
Параллельно в это время Александров работает над серией «песен». Так же «бедные» книги, обтянутые различными домашними тряпками, в которых одно и то же клише многократно отпечатывается, а написанные художником тексты, напоминающими то философские максимы, то буддийские изречения, то почти современные цитаты из социальных сетей, создают внутреннюю драматургию, рождающуюся из чистой визуальности.
В середине 1990-х Александрова создает «Полное собрание архетипов» — книгу из сотен (если не тысяч) страниц туалетной бумаги, каждая из которых содержит очередную комбинацию случайно найденных клише изображений и текстов: например, зад слона с подписью «милая» или пакет-майка с названием «большая жилетка». Особое место среди книг, созданных в 90-е занимает «Робинзон Крузо с картинками» — собрание реальных рукописных и печатных объявлений. Эта подлинная «коллективная рукопись времени» передаёт социальную атмосферу середины 1990-х через объявления о продаже мебели, шкурок енота, диет, поиске работы («нам нужны серьезные люди»), а также рекламе публичного дома. Среди них встречается и объявление о продаже «Робинзона Крузо с картинками» — давшее название книге.
В конце 90-х Александров придумывает новый формат своих книжных объектов — «самопечатающиеся книги». В 1997 году появляется первый подобный объект, сделанный из толстых листов гофрокартона, внутри которых вставлены личные предметы отца, матери и жены художника (например, портмоне, палетка теней, очки, расческа и др.). Покрытые типографской краской, они буквально «печатают» книгу, оставляя отпечатки — сюрреалистические знаки-индексы, фиксирующие прямой след реальности, её остаточный след, ту самую «сюр-реальность», в которой материальное и символическое соединяются в одном жесте.
Апогеем этого исследования становится серия книг, созданных отпечатками спагетти. Случай, подсмотренный в конце 1990-х, когда дальнобойщики ели котлеты со спагетти возле уличного ларька, вдохновил художника на книжный объект «Последний ужин», название которого отсылает к ‘The Last Supper’ — Тайной вечере. В первой книге — тринадцать «эстампов» по числу участников исторической трапезы: отпечатки картонных тарелок с прилипшими макаронами образуют удивительно выразительные абстракции. Особую радость художнику доставило открытие зелёных и чёрных спагетти в Италии — их даже не нужно было покрывать краской.
Александров работает не только с привычным форматом книги кодекса, но и обращается к допечатным формам: свиткам и скрижалям. В 1997 году он создаёт свиток «Сто видов Фудзи» длиной в 32 метра — всего на девять метров короче древнеегипетского папируса Харриса. Этот объект — буквальная и концептуальная тавтология названия: перед зрителем проходит серия из ста хокусайевских отпечатков, в которых медленно и почти незаметно происходят изменения, напоминающие едва уловимые сдвиги во время медитации. При этом свиток — не просто упражнение в повторе: он иронически вскрывает односторонность западного линейного чтения. Его нельзя «прочитать» — только переживать как медитативное различение микроперемен внутри повтора.
В 2000-е годы Александров создаёт серию свитков на толе — рулонном кровельном материале из картона, пропитанного каменноугольными или сланцевыми смолами. На этих тяжёлых, почти индустриальных рулонах он печатает концептуальные фразы или минимальные графемы, доводя свой опыт работы с письмом и знаковостью до предела. В какой-то момент становится ясно, что фраза «gott mit kunst» (игра с известным лозунгом) ничем принципиально не отличается от загадочного «кака кала» или даже от лаконичного «еб еб», как и от простых палочек.
Важно подчеркнуть, что работы Александрова — не совсем «книги художника» в привычном смысле. Да, формально это книги, сделанные художником, но по своей природе они скорее являются книжными объектами. С одной стороны, они представляют собой восстание против униформности массового производства и принципиально противостоят классической книге художника, которую традиционно окружает ореол дорогой эксклюзивности и ремесленного совершенства. А с другой, именно сознательный отказ от безупречного исполнения и роскошных материалов становится в его практике наиболее мощной критикой как индустриальной формы производства книги, так и традиционного книжного искусства.
о концептуализме
Конечно, изучая практику Юрия Александрова, так и хочется назвать его художником-концептуалистом. Ведь само обращение к формату книги несёт в себе очевидно концептуалистский характер. Недаром в 1968 году американский куратор Сет Сигелауб, размышляя о том, как экспонировать работы молодых художников, чья практика становилась всё менее объектной и всё более текстовой, предложил формат выставки в виде книги — так появился его каноничный проект «Xerox Book». В 1970-е годы в советской России Андрей Монастырский документировал свои «поездки за город» в виде книг, а Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Дмитрий Пригов и Эрик Булатов создавали книги-альбомы, исследуя отношения слова, знака и идеологии.
Однако сам Александров крайне настороженно относится к тому, когда его пытаются причислить как к зарубежной (американской), так и к отечественной (московской) традиции концептуализма. И связано это абсолютно не с тем, что его практика далека от концептуального мышления. Скорее всего, для Александрова сам термин «концептуализм» слишком тесен: он задаёт институциональные рамки и связывает художника с исторически закреплёнными школами, к которым он не чувствует принадлежности. Ему чужда сама идея «вхождения» в направление, и, как реакция на это, возникает его главная мистификация — миф о «ленинградской школе», участником которой он выступает вместе с вымышленными, но через его собственную речь временами почти реально существующими коллегами. Если так, то можно ли назвать практику Юрия Александрова «ленинградским концептуализмом»? И как вообще возможно определить специфику этого явления?
Во-первых, в основе любого концептуального искусства лежит художественная стратегия, открытая в начале XX века Марселем Дюшаном: область искусства не связана исключительно с производством вещей, а в первую очередь является интеллектуальной деятельностью по созданию идей. То есть жест художника заключается не в изготовлении объекта, а в выборе и артикуляции концепции. Стратегия Александрова, конечно, перекликается с дюшановской, однако в отличие от Дюшана — убеждённого противника «сетчаточного искусства» (его авторский термин) и художника, сделавшего основной проблемой своего искусства кризис визуальной репрезентации, — Александров сосредоточен прежде всего на знаковой, если угодно литературной, проблематике. Выросший в профессиональной среде книгопроизводства, он направляет внимание на отношения слова и образа, на природу знаковых систем и способы их передачи.
Во-вторых, концептуальный интерес Александрова направлен на саму природу книги. Как уже было сказано, концептуалисты часто обращались к книге как к форме репрезентации своих работ, однако лишь немногие пытались критически осмыслить сам феномен книги. Что есть книга? Как она работает? Что делает книгу книгой и зачем она вообще нужна? И именно поэтому для Александрова так важна фигура Гутенберга — отца-основателя той книгопечатной традиции, внутри которой мы по-прежнему существуем, пусть и в окружении новых медиа. Распознав в Гутенберге центральное действующее лицо европейской культуры, художник смело, хотя и с почтением, раздвигает рамки его «галактики», предлагая изощрённые, неконвенциональные форматы до- и постгутенберговского типа. Так, «самопечатающиеся книги» Александрова можно рассматривать как комментарий к постоянно растущему самовоспроизводящемуся потоку печатной информации.
В-третьих, в отличие от стерильного американского концептуализма, который во многом вырос из минимализма, и «романтизации» повседневности в московском концептуализме, практика Александрова предельно тесно связана с поэтикой «бедных материалов» и вниманием к графическим средства художественной выразительности. Трепет от линий и пятен, щепетильность по отношению к техническим особенностям различных способов печати сочетаются с поэтикой туалетной бумаги, обрывков объявлений, старых картонок, засохших макарон, тканевых футболок, найденных фотографий и т.д. Такой «материалитет» не встречается у его предшественников-концептуалистов. Если только не считать художников arte povera за концептуалистов. Однако важное отличие того, что делает Александров, от arte povera заключается уже не в формальном, а скорее в содержательном модусе. В итальянском «бедном искусстве» практически отсутствует мотив «маленького человека», тогда как у Александрова он становится одной из ключевых поэтик — в его работах появляется абстрактная фигура уязвимости, бытовой нелепости, человеческой ограниченности. Собирая свои работы из подручных, простых и бытовых материалов, которые несут отпечаток повседневной жизни, её трещин и смешной трагичности, он словно заставляет саму материю говорить — работы сохраняют через десятилетия дух времени, в котором они были созданы. Разве не в этом проявляется то человеческое, почти интимное присуствие, которой не было в прежних концептуализмах? Критик Николай Кононов в одном из своих текстов о практике Юрия Александрова отметил: «Меня не оставляло чувство, что язык схематизма, выбранный Александровым, на самом деле прикрывает иллюзию и зыбкость нашего бытия, и все что я вижу — серьезный несмешной разговор о смерти и любви, хотя серьезно об этом говорить сейчас уже невозможно». Человек в мире Александрова, конечно, находится в мире абсурда и идиотии. Но это не его вина, что есть силы, которые не подвластны частному и маленькому человеку, «даже познавшего тайны Мифа, даже прошедшего все ступени анализа».
Конечно, вслед за самим Александровым, я использую понятие «ленинградского концептуализма» прежде всего как спекулятивную теоретическую модель, позволяющую обозначить особенности метода художника: критическую ориентацию на книгу как основной медиум, работу с языком и знаковой природой вещей, иронию по отношению к институциям искусства, использование «бедных материалов» и бытовых форм, внимание к человеческому масштабу и повседневности. Эта рамка помогает увидеть уникальную траекторию Александрова существующую вне канонических версий концептуализма, но неизбежно с ними перекликающуюся. Именно поэтому его книги оказываются не только аналитическими структурами, но и материальными свидетельствами человеческого опыта, в которых концептуальная мысль и «частная» человеческая история удивительным образом складываются в целостное пространство смыслов.
о знаках
Формат книги как хранилища смыслов, закодированных в виде определенной знаковой системы, напрямую связан с проблематикой языкового знака. Это понятие в начале XX века сформулировал швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр. В «Курсе общей лингвистики» Соссюр настаивает: знак — это не связь между словом и реальной вещью, как часто думают, а единство двух психических элементов: означающего (звукового или графического образа) и означаемого (понятия). То есть слово не именует вещь напрямую — оно соединяет в сознании образ звучания или начертания и концепт, который этому образу соответствует. Это соединение — сугубо психическое. Мы можем «произносить» слово про себя, без малейшего движения губ: значит, его сущность не в физическом звучании. Соссюр подчёркивает и другую важную вещь: образ и понятие образуют знак только вместе. Если мы произносим слово «дерево», то оно является знаком лишь потому, что к нему прикреплено понятие «дерево»; в противном случае это просто звук.
Это различие важно для понимания того, что делает Юрий Александров. В своих книгах он зачастую обращается к языковой игре, где слово и образ становятся наиболее конфликтной парой для создания разрывов и смещения между означаемым и означающим. Критик и литературовед Анатолий Барзах в тексте к одной из выставок Юрия Александрова прекрасно описывает эту проблематику: «Слово и изображение — есть ли в искусстве более конфликтная, более непримиримая пара? Слово — означивает, означает, указывает на нечто, совершенно от него («материально») отличное; изображение — представляет, замещает вещь, уподобляется ей или само некоей вещью становится. И несмотря на все оговорки и бесчисленное множество «промежуточных» сущностей, всякий раз, когда слово и изображение встречаются на «ничейной», как кажется, территории, их несовместимость неминуемо ведет к катастрофе».
Именно в этой «катастрофической зоне», где слово и изображение оказываются одновременно соединены и несовместимы, работает Юрий Александров. Его книги намеренно помещают зрителя в пространство семантического сбоя. Там, где мы ожидаем увидеть соответствие между словом и картинкой — пусть минимальное и условное, — он предлагает лишь разрыв, смещение и невозможность совпадения. Означаемое ускользает, означающее множится, и знак перестаёт быть устойчивой единицей. Найденные означающие утрачивают привычную, унифицированную функцию и превращаются в чистые графемы.
Но как объяснить этот «знаковой беспорядок», возникающий у Александрова? С одной стороны, связь между словами и образами действительно строится у него на принципах случайности и произвольности. О такой же природе произвольности знака писал Соссюр, утверждая, что нет никакого внутреннего, «естественного» отношения между звучанием слова и тем, что оно обозначает,: каждый знак — результат исторического соглашения внутри сообщества. Именно произвольность делает знак уязвимым, подвижным, зависимым от контекстов и привычек, а не от вещей.
Но жест Александрова уходит гораздо глубже простой демонстрации условности знаков. В его разрушительном жесте есть элемент освобождения — своего рода эмпатийная эмансипация языка, попытка вывести его за пределы окостеневшей логики позднесоветских клише, с которыми он часто работает. В его книгах знак почти всегда немотивирован, и именно эта немотивированность открывает пространство для игры, парадокса, смещения — для рождения новых связей там, где прежние перестали работать.
С другой стороны, эта языковая игра порождает логику абсурда. Или как ее называет сам художник, «идиотизма». В 1980-е годы Александров знакомится с текстами Роба-Грийе, представителем «нового романа»1, и абсурдистскими пьесами Беккета и Мрожека. Этот опыт оказал на него прямое стилистическое и концептуальное влияние, задав определенный способ смотреть на язык, знак и человеческое существование. Ключевой посыл этой литературы состоит в убеждении, что мир не обладает заранее заданным смыслом, а язык, который должен этот мир описывать, уже не может выполнять свою функцию. У Беккета и Роб-Грийе слово утрачивает надёжность, превращается в пустую оболочку, а повтор становится структурным элементом восприятия. Человек в таком мире — «маленький», уязвимый, окружённый системой знаков, которые больше не объясняют реальность, прямо как у Александрова. Этот взгляд удивительным образом рифмуется с его практикой. Повтор, столь важный для литературы абсурда, также оказывается ключевым принципом его работ: будь то «Песни», где одно и то же клише отпечатывается десятки раз, «самопечатающиеся книги» или свиток «Сто видов Фудзи», в котором минимальные вариации обнаруживаются лишь при длительном, почти медитативном взгляде. Также важно, что как и означающее, которое разворачивается во времени (в речи) или в пространстве (в письме), так и работы Александрова работают с линейностью, которая делает возможными синтаксис, порядок, ритм — всё то, что структурирует язык. Как написал искусствовед Алексей Лепорк, «изображения хочется рассматривать, но не в поисках отличий, а в другом — отключаще-играющем смысле».
1 «Новый роман» — литературное направление постмодерна во французской прозе, сложившегося в конце 1940-х — начале 1960-х годов и противопоставившего свои произведения социально-критическому, с разветвлённым сюжетом и множеством персонажей, роману бальзаковского типа, который было принято считать одной из стержневых традиций французской литературы.
о выставке
Свою новую выставку Юрий Александров назвал «ШКАФ». Название абсолютно тавтологично тому, что видит зритель, оказываясь в экспозиции. Вместо того чтобы следовать спектакулярным стратегиям выставочной индустрии позднего капитализма — идти навстречу зрителю, разложить произведения перед публикой, словно блюда на шведском столе, доступные для немедленного потребления, — Александров делает обратное. Он предлагает спрятать свои работы, насколько это возможно: разместить их в шкафу, так, как книги веками хранятся в библиотеках, фондах и архивах.
Шкаф можно было бы прочитать как элемент стилизации, но гораздо важнее другое: он представляет собой модель отношения к знанию, которая возвращает книге её фундаментальную роль — не быть «видимой», а быть хранимой и охраняемой. И этим жестом Александров выводит зрителя из логики мгновенного визуального потребления, помещая его в пространство, где доступ к произведению требует усилия — того же усилия, которое требует чтение. Чтобы прочитать книгу, нужно её открыть; чтобы посмотреть выставку, нужно открыть шкаф.
В феноменологии французского философа Гастона Башляра шкаф трактуется как пространство интимности и памяти — одна из тех «глубинных коробок», где человеческое воображение находит себя. В отличие от витрины, предназначенной для демонстрации, шкаф хранит вещи не для взгляда, а для времени. Он укрывает, оберегает, собирает следы прожитого: фрагменты биографии, жесты, случайные накопления — вещи, которые важно не показывать, а сохранять. Шкаф всегда предполагает жест приближения: чтобы увидеть то, что в нём находится, нужно не просто смотреть — нужно открыть, наклониться, заглянуть. Это движение делает встречу с предметом телесной. Башляр называет такие пространства «местами поэтического опыта», где вещь обретает собственное молчание, независимое от взгляда.
экспозиция
открытие выставки